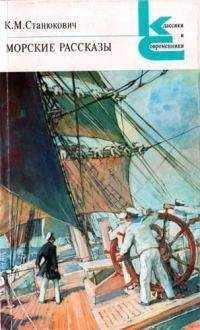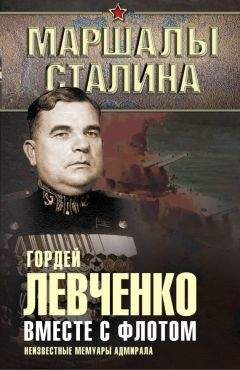И Кирюшкин сплюнул.
— А вестовой у него — из наших «дромахинских» матросов — одно слово, словно бы в потемнение рассудка от страха вошел… Чуял он беду, как только Ястреб его в вестовые выбрал… Мы с Тепляковым земляки были… «Плохо, говорит, мое дело, Андрейка. Ястреб недаром меня в вестовые выбрал. Изничтожит он меня, попомни, говорит, мое слово… Потому зол он на меня». — «Что ты, говорю, мелешь. За что ему быть злым на тебя. Он тебя вовсе и не знает!» — «То-то, говорит, знает», — и сам с лица побелел.
И повинился мне тогда Тепляков, что он к этой самой Аленке приверженность имел и тайком забегал к ей на кухню, когда ейного барина дома не было. И раз он их застал. Однако ни слова не сказал. Но с той поры Тепляков остерегался ходить… Аленка все-таки бегала к нему в казармы и с ним гуляла. И Никандра Петрович, должно быть, догадывался, но только все-таки Аленку держал… очень уж занозистая девка была… Огонь-девка… — «Я, говорит, и своего Ястреба люблю, и матросика люблю… На всех меня хватит…»
— Что ж, Ястреб мстил Теплякову, что ли? — спросил я.
— А бог его знает, что в его душе было, а только он беднягу вестового почти что каждый день без всякого милосердия тиранил — то боем, то поркой… К каждой малости придирался… За все на нем сердце срывал. И до такой отчаянности его довел, что сам, должно быть, испугался, как бы матрос чего в потемнении ума не сделал! И этак месяцев через пять отчислил его от вестовых. И взаправду, пора было… а то Тепляков беспременно прикончил бы Никандру Петровича… Он, положим, терпеливый был, но все-таки норовистый. Есть такие, вашескобродие. Терпит-терпит до данного ему предела, а потом на всякую отчаянность пойдет. И доходил уж Тепляков до предела. Сознался после мне, что недобрые мысли были… Большое зло он на Ястреба имел. И пропасть бы им обоим, если б в те поры не увольнил Никандра Петрович своего вестового и не взял другого. Вовсе ожесточил человека и в тоску ввел! Однако и покурить пора, вашескобродие.
— Этот самый Тепляков и «выправил» Никандра Петровича? — спросил я.
— А вот узнаете, вашескобродие. Заставили рассказывать, так слушайте! — ворчливо ответил Дмитрич, задетый в своем самолюбии рассказчика, привыкшего, чтоб его слушали. И вообще он, несмотря на свою горемычную жизнь и почти нищенское положение, умел сохранять свое достоинство.
Докурив свою цигарку, старик сказал:
— А хорошо на солнышке… Кости-то старые греет… Верно, и Никандра Петрович солнышку радуется. Он и не знает, что мы про него рассказываем, и, верно, забыл, что мне три зуба вышиб…
— Три?
— То-то три, и сразу. Рука у него была тяжелая…
— И наказывал вас линьками?..
— И очень даже довольно часто… За пропой казны… Ну, да бог с ним… Я зла на него не имею… Мало ли чего было… И дай ему бог на том свете покою… Потому — понял свою ожесточенность и людей стал жалеть… Беспременно явлюсь к нему… Я и не знал, что он тут на даче…
— Кажется, тут… Ну, так рассказывайте, Дмитрич.
И старик продолжал.
— Назначили Теплякова фор-марсовым — он и раньше на фор-марсе служил — и гребцом на капитанский вельбот… Видный и пригожий из себя был Тепляков, Никандра Петрович любил, чтобы гребцы, что на его катере, что на вельботе, были здоровые, молодые и видные… По крайности лестно… И вскорости Тепляков в себя пришел… Свет божий увидал, как из вестовых вышел. А уж старался как, чтобы, значит, не могло быть капитанской шлифовки!.. Бывало, и на рее работал вовсю, и у орудия за комендора был… Провористый такой во всяком деле… И повеселел…
— А разве Ястреб ваш отошел?..
— По-прежнему разделывал, но только все же Теплякову не так часто попадало, а вместе со всеми, ежели, примерно, капитан прикажет всех марсовых перепороть…
— А это случалось часто?
— Небось раз в неделю обязательно… Чуть на секунд, на другой паруса закрепили позже евойного положения или марселя сменили на минуту позже, уж он заметит — сам в руках склянку держал — и, как ученье окончит, зыкнет: «Фор-марсовых или грот-марсовых на бак!» Ну, а там известная разделка. Получи по сту. И по другим случаям попадало… И сам, бывало, смотрит, как наказывают… Вовсе легко в жестокость приходил. Потому — видит, что нет ему противности, он от этой самой жестокости и пьянеет… Никого не боится — ни бога, ни черта. Нынче вот, как препона есть, небось жестоких командиров что-то нет. Утихомирил их батюшка император Александр Второй… Суди, мол, виноватого, а жестоким не будь… Хорошо. Плавали мы таким родом шесть месяцев и кляли Ястреба… А он и ухом не вел, что матросы его не терпят… Небось понимал это… Пришли мы наконец и на Яву-остров, в Батавию… Изволите помнить, вашескобродие?.. Мы с вами и на «Коршуне» там были… Еще там арака такая пьяная… Только араку эту я и помню… какой такой город… Пришли, а капитан ту ж минуту айда в город и велел вельботу через два дня у пристани быть в десять часов утра. Он везде в портах любил съезжать и уж там, сказывали, денежкам глаза протирал… Любил форснуть, ну и мамзелей угостить, чтобы, значит, знали, какой есть командир российского конверта… Он по этой части себя соблюдал и, бывало, ежели к себе гостей взагранице звал, то уж небось угостит и напоит.
— А сам пил?
— В плепорцию.
— И наверху никогда пьяным не бывал?
— Не видал… Так разве в каюте когда по-благородному выпьет, а чтобы наверху пьяный, этого никто не видал. Он до этого не допускал себя… Однако за пьянство с матроса не взыскивал. Только вернись в свое время, а в каком виде пьянства, до этого не касался. И старшему офицеру приказывал не взыскивать. Только чтобы пропою казенных вещей не было, а ты хоть в мертвом виде будь… На то ты и матрос… Однако вы все перебиваете, вашескобродие. На чем я остановился?.. Я и запамятовал…
— Как в Батавию пришли и капитан съехал на берег, а вельботу приказал приехать за ним через два дня…
— Ну вот, тут скоро и конец будет… Уехал это Никандра Петрович, и на конверте, значит, отдышка… Рады все, что два дня без Ястреба… На третий день послали с восьми часов вельбот за ним, и вскорости после того засвежело… Здоровый ветер поднялся… Кои матросы льстились, что в такой ветер он не пойдет на вельботе, а побудет на берегу; но только я сумлевался… Отчаянность-то его понимал… и на парей с одним унтерцером пошел на стакан араки… По-моему и вышло. В одиннадцатом часу и видим: жарит он на вельботе да еще под парусами… Однако два рифа у грота взял. А ветер все сильней… Вельбот совсем на боку… близко уж был к конверту, как в один секунд вельбот перевернуло — и все в воде… Тую ж минуту вахтенный офицер крикнул катерным на катер, и мы наваливаемся, чтобы спасти людей… А изволите знать, вашескобродие, акульев там страсть, на рейде-то… Гребу это я, а сам думаю: Ястребу крышка… Плавать он вовсе не мастер был, а волна ходила здоровая… Подошли… Кои матросы за перевернутый вельбот держатся, а Тепляков плывет и Никандру Петровича за волосы держит… Всех забрали, все только в воде искупались… Только капитан был в бесчувствии… А Тепляков мокрый, красный и смотрит на этого самого Ястреба по-хорошему… доволен, значит, что спас человека… Пристали это мы к конверту, принесли капитана в каюту и вскорости его в чувство привели… Оттерли… А то воды он хлебнул порядочно. А я Теплякова допрашиваю: «Как, мол, ты, Антошка, и своего злодея спас?» — «Сперва не хотел, говорит. Вижу, откинуло его парусом от вельбота и тонет он, а я поближности… И как увидал он меня, то с такой, говорит, тоской посмотрел — понял, мол, что не ждать ему от меня помощи, — что в тую ж минуту жалость меня взяла, и я к нему… А он уж захлебнулся и под водой. Я за волосы и… тут катер подошел… и чувствую я, говорит, Андрейка, теперь легкость на душе. А не спаси я его… был бы вроде убивца…» Только что это он рассказал мне и переоделся, как зовут Теплякова к капитану… Этак минут через десять вернулся он в расстройке… «Ну, что он тебе говорил? — спрашиваю. — Благодарил?» Тепляков все в подробности и обсказал, как Никандра Петрович, увидавши его, смотрел во все глаза и спросил: «Ты… ты меня спас?» А Тепляков ему: «Точно так, вашескобродие!» — «Ты?» — опять спросил Никандра Петрович. А Тепляков снова: «Точно так, вашескобродие!..» И после того Ястреб заплакал и сто рублей предлагал. Однако Тепляков отказался. «Я, говорит, не за деньги спасал…» — «Так проси чего хочешь», — спрашивал он. А Тепляков ему и скажи: «Дозвольте, вашескобродие, слово сказать». — «Говори». — «Пожалейте, вашескобродие, матросов!..» С тем и ушел… Видно, сам господь его умудрил ко времени сказать это самое… Не побоялся! — промолвил умиленно Дмитрич.
— Ну и что же, после этого переменился капитан?
— Совсем другим человеком стал… Ни этого боя не было… ни шлифовки…
— И не было наказаний?..
— Как не было… были. Без взыска нельзя, но только наказывал не зря и редко… И ожесточенность прошла… Вот каким родом матросик выправил Никандру Петровича… Небось редко такие дела бывают, а все-таки бывают! Случай такой подошел… Вот только мне случая не было, вашескобродие, — неожиданно заключил Дмитрич.