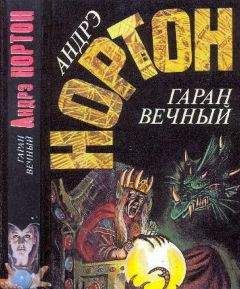Священник улыбнулся.
— Мне кажется, не такое сейчас время, чтобы веселиться, — заметил он.
Я отвечал:
— Мы все время сражаемся, сударь. За последний месяц погибло четырнадцать наших товарищей, а трое пали не далее как вчера. Что поделаешь, — война. Мы каждую минуту рискуем жизнью, так почему бы нам не рисковать ею весело? Мы французы, мы любим посмеяться и умеем смеяться всюду. Наши отцы смеялись и на эшафоте! Сегодня вечером мы хотели бы немного развлечься, как светские люди, а не как солдафоны, — вы понимаете меня? Разве это грех?
Он отвечал с живостью:
— Вы правы, мой друг, и я с большим удовольствием принимаю ваше приглашение.
И крикнул:
— Арманс!
Вошла старая крестьянка, скрюченная, сморщенная, страшная; она спросила:
— Что угодно?
— Сегодня я не обедаю дома, дочь моя.
— Ну, а где же вы обедаете?
— С господами гусарами.
Мне хотелось сказать: «Приходите вместе с вашей служанкой», — чтобы посмотреть, какую рожу скорчит Марша, но я не решился.
Я продолжал:
— Не знаете ли вы среди ваших прихожан, оставшихся в поселке, еще кого-нибудь, мужчину или женщину, кого бы я мог также пригласить?
Он задумался, стараясь припомнить, и объявил:
— Нет, никого не осталось!
Я настаивал:
— Никого?.. Ну, господин кюре, припомните. Было бы очень мило пригласить дам. Само собой разумеется, с мужьями. Кого? Ну, почем я знаю! Булочника с женой, лавочника... часовщика... сапожника... аптекаря с аптекаршей... у нас отличный ужин, вино, и мы были бы счастливы оставить по себе у местных жителей приятное воспоминание.
Священник снова погрузился в долгое размышление, потом решительно заявил:
— Нет, никого не осталось!
Я рассмеялся:
— Черт возьми! Господин кюре, какая досада не иметь королевы — ведь у нас сегодня крещенский боб! Подумайте, припомните! Разве здесь нет женатого мэра, женатого помощника мэра, женатого муниципального советника, женатого учителя?..
— Нет, все дамы уехали.
— Как, нет ни одной приличной дамы с приличным супругом, которым мы могли бы доставить такое удовольствие? Ведь для них, в нынешних обстоятельствах, это было бы действительно большим удовольствием!
Вдруг священник расхохотался; он трясся всем телом в припадке неистового смеха и выкрикивал:
— Ха-ха-ха! Я устрою вам это дельце! Иисус Мария, устрою! Ха-ха-ха! Мы посмеемся, дети мои, хорошо посмеемся. И дамы будут очень довольны, я уверен, очень довольны. Ха-ха-ха!.. Где вы расположились?
Я объяснил, описав ему дом. Он понял:
— Отлично! Это дом господина Бертен-Лавай. Через полчаса я буду у вас с четырьмя дамами! Ха-ха-ха! С четырьмя дамами!!!
Не переставая хохотать, он вышел со мной и тут же покинул меня, повторяя:
— Так через полчаса, дом Бертен-Лавай.
Я поспешил домой, весьма озадаченный и заинтригованный.
— Сколько приборов? — спросил Марша, увидев меня.
— Одиннадцать. Нас шестеро, господин кюре и четыре дамы.
Он был поражен. Я торжествовал.
Он повторял:
— Четыре дамы! Ты говоришь: четыре дамы?
— Да, четыре дамы.
— Настоящие женщины?
— Настоящие.
— Черт возьми! Прими мои поздравления.
— Принимаю. Я их заслужил.
Он вскочил с кресла, отворил дверь, и я увидел превосходную белую скатерть, покрывавшую длинный стол, на котором трое гусар в синих фартуках расставляли тарелки и стаканы.
— Будут женщины! — крикнул Марша.
И трое мужчин пустились в пляс, аплодируя изо всех сил. Все было готово. Мы стали ждать. Прождали около часа. Упоительный аромат жареной птицы разносился по всему дому.
Удар в ставню заставил нас сразу вскочить. Толстяк Пондрель побежал открывать, и минуту спустя в дверях появилась старушка-монашенка. Худая, морщинистая, робкая, она поочередно раскланялась с четырьмя гусарами, изумленно смотревшими на нее. За ее спиной слышался стук палок по каменному полу прихожей, и как только она вошла в гостиную, я увидел, одну за другой, три старушечьих головы в белых чепцах; они появились, покачиваясь в разные стороны, кто налево, а кто направо. И перед нами, ковыляя, волоча ноги, предстали три богаделки, изувеченные болезнями, изуродованные старостью, три немощные калеки, единственные три пансионерки, еще способные выйти из богоугодного заведения, которым заведовала монахиня-бенедиктинка.
Она обернулась к своим подопечным, окинула их заботливым взором, затем, увидев мои вахмистерские нашивки, сказала мне:
— Я очень вам благодарна, господин офицер, за то, что вы подумали об этих бедных женщинах. У них мало радости в жизни, и ваше приглашение на ужин — для них и большое счастье и большая честь.
Я увидел кюре, — он стоял в темной прихожей и хохотал, от всего сердца. Тогда и я засмеялся, особенно после того, как увидел физиономию Марша. Потом, указав монахине на стулья, я сказал:
— Садитесь, сестра, мы горды и счастливы тем, что вы приняли наше скромное приглашение.
Она взяла три стула, стоявшие у стены, выстроила их в ряд перед камином, подвела своих богаделок, усадила их, отобрала у них палки, шали и сложила их в углу; затем, представляя нам первую, худую старуху с огромным животом, по всей вероятности, страдавшую водянкой, сказала:
— Это тетушка Помель; ее муж расшибся насмерть, свалившись с крыши, а сын умер в Африке. Ей семьдесят два года.
Потом указала на вторую — рослую женщину, у которой непрерывно тряслась голова:
— Это тетушка Жан-Жан, шестидесяти семи лет. Она почти слепая: во время пожара ей опалило лицо; кроме того, у нее обгорела правая нога.
И наконец показала на третью — карлицу с выпученными глазами, круглыми и тупыми, бегавшими во все стороны:
— Это Пютуа, блаженная. Ей только сорок четыре года.
Я поклонился всем трем женщинам, словно меня представили королевским высочествам, и, повернувшись к кюре, сказал.
— Господин аббат, вы замечательный человек, и мы все должны благодарить вас.
И в самом деле все смеялись, за исключением Марша, — он был взбешен.
— Сестра, кушать подано! — тотчас провозгласил Карл Масулиньи.
Я пропустил монахиню с кюре вперед, потом поднял тетушку Помель и, взяв ее под руку, потащил в соседнюю комнату, однако не без труда, потому что ее вздутый живот был, по-видимому, тяжелее металла.
Толстяк Пондрель подхватил тетушку Жан-Жан, которая со стонами просила дать ей костыль, а маленький Жозеф Эрбон занялся блаженной Пютуа и препроводил ее в столовую, где вкусно пахло жарким.
Как только мы уселись за стол, сестра трижды хлопнула в ладоши, и женщины точными движениями, как солдаты берут на караул, широко и быстро перекрестились. После этого священник не спеша прочитал по-латыни Benedicite[1].
Все расселись, и на столе появились две курицы, принесенные Марша, который предпочел прислуживать, чтобы только не принимать участия в этом нелепом ужине.
Но я крикнул: «Шампанского, живо!» Пробка хлопнула с треском пистолетного выстрела, и, несмотря на сопротивление кюре и монахини, три гусара, сидевшие возле трех калек, насильно влили им в рот по полному бокалу.
Масулиньи, отличавшийся способностью чувствовать себя повсюду как дома и ладить со всеми, самым забавным образом ухаживал за тетушкой Помель. Больная, сохранившая веселый нрав, несмотря на все свои несчастья, отвечала ему шутками; говорила она таким фальцетом, что он казался искусственным, и так громко смеялась веселым выходкам соседа, что казалось, ее огромный живот вот-вот вспрыгнет и покатится по столу. Маленький Эрбон всерьез решил подпоить идиотку, а барон д'Этрейи, не отличавшийся живостью ума, расспрашивал тетушку Жан-Жан о жизни, укладе и правилах богадельни.
Испуганная монахиня кричала Масулиньи:
— О, вы ее уморите, не смешите ее так, умоляю вас, сударь! О сударь...
Затем, вскочив с места, она бросилась к Эрбону, чтобы вырвать у него из рук полный стакан, который он быстро вливал в рот Пютуа.
Кюре корчился от смеха, повторяя:
— Да оставьте, пусть выпьет разок. Ничего с ней не случится. Оставьте же.
Покончив с курами, принялись за утку, окруженную тремя голубями и дроздом, а затем появился дымящийся золотистый гусь, распространявший вокруг запах поджаренного жирного мяса.
Помель оживилась и захлопала в ладоши, Жан-Жан перестала отвечать на многочисленные вопросы барона, а Пютуа издавала радостное урчание, не то визг, не то стон, как маленькие дети, которым показали конфеты.
— Не позволите ли мне заняться этим зверем? — сказал кюре. — Я понимаю толк в этом деле.
— Ну, конечно, господин аббат.
А сестра прибавила:
— Что, если бы на несколько минут открыть окно? Им слишком жарко. Я боюсь, что они заболеют.
Я повернулся к Марша:
— Открой на минутку окно.
Он отворил окно; ворвался холодный воздух, колебля пламя свечей и относя в сторону пар, поднимавшийся от гуся, у которого священник искусно отрезал крылышки, повязав себе салфетку вокруг шеи.