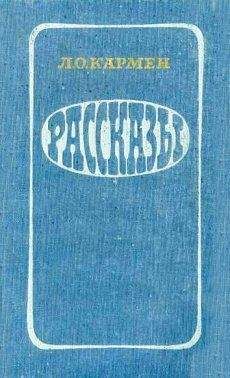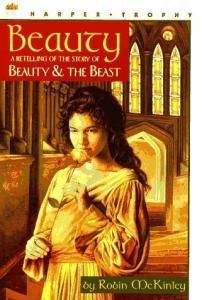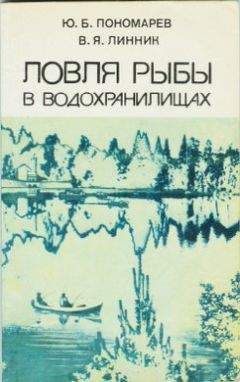– А трескаешь ты шибко, как свое! – улыбнулся он.
Парень перестал и побурел. От этого замечания кусок огурца застрял у него в горле.
– Да ну, ешь! Я ведь так, для красного словца! Ешь! – засуетился Барин.
Барин произнес эти слова так отечески тепло и ласково, что парень примирился, просиял и стал опять уписывать.
Пока он уписывал, Барин не спеша достал из кармана огрызок сигары, должно быть, подобранный на улице, закурил и растянулся.
– Долго не ел? – спросил он спокойно, разжигая сигару и пуская правильные колечки дыма.
– Два дня! – последовал ответ.
– Здоррово… Какой губернии?
– Тульской… Аржаной…
– А звать тебя?
– Ефремом.
– Ефре-ем, Ефре-ем!.. – запел Барин и насмешливо уставился на парня. – А похож на волка! Ишь! Как глаза лупит и зубы скалит!..
– Гы-и! – гигнул парень.
– Волк, ей-богу, волк! Слышишь?!. Ты не Ефрем, а волк! Ха-ха-ха! – И Барин разразился неприятным смехом.
Ефрем, желая подслужиться, тоже рассмеялся.
Барин докурил сигару, выплюнул окурок и серьезно спросил:
– Недород у вас, что ли?
– Всего…
Ефрем сдвинул брови и нахмурился.
– Ты давно из деревни?
– Месяц будя.
– Мать есть?
– Есть.
– И отец?
– И отец.
– А как попал сюда?
– Попал как?… До Ельца с володимирскими столярами по машинке ехал. Спасибо им, поддержали. Потом полотнил пешим, по шпалам. Дорогой выручили свои же, православные. Зайдешь в деревню, тебя накормят и спать уложат. Так маялся, пока до самой этой Одессы не добрался. Остановился я на околице и спрашиваю городового: «Где тут, земляк, работу достать можно?!» – «Ступай в порт!» – «А где этот порт?» Показал. Я сюда. Место, знаешь, незнакомое и люди тоже. Насилу упросился, чтобы на работу взяли… Ей-богу! Ну и злой же народ тут. Разбойники. Веришь? Бить хотели!
– Кто бить хотел?
– Да эти голоштанники! «Чего, хлеб, – обступили они, – отбивать пришел?! Ах ты, такой-сякой, цинготный!»
Парень возвысил голос:
– Ишь, хлеб отбивать. Да чей он, хлеб-то? Кто его сеял? Кто землю орал, кто хлеб косил, в скирды складывал и молотил?
– Так-так! – закивал одобрительно головой Барин. Ефрем, польщенный его одобрением, слабо улыбнулся и добавил:
– Я что! Косарь! Мне бы только поддержаться малость. Наша степь ведь что скатерть. Ни травы, ни былинушки. Поддержусь и назад домой, марш! Вот крест! Не останусь тут… Ну их… Хлеб отбивать… Ишь!..
Глаза у Барина заблистали.
Он подполз близко к Ефрему и взволнованно спросил:
– Верно говоришь?!
– Верно.
– Так и следует! Поддержись малость и назад! Без оглядки! Не то пропадешь в городе. Смолотит. Мужику не след бросать земли.
– Не след? – удивился Ефрем. – А если земли мало?
– Старая песня! – нахмурился Барин. – Знаем вас. Сам помещиком был.
– Ты? – удивился Ефрем.
– Я!.. Чего буркалы выпучил?! У меня полторы тысячи десятин чернозему было да завод конский. Ну, да это не твое дело… Ты говоришь, земли мало? Зато земли у помещика. Работай ему и жить будешь.
Парень усмехнулся и спросил:
– За пятишницу, что ли?
– А пятишницы мало? – вспылил Барин.
– Мало, себе дороже стоит!
– Четвертную, стало быть, вам?
– Коли ваша милость! – чуть слышно засмеялся парень и показал крепкие, белые зубы.
– Дурак!
– Чего ругаешься? – заметил сквозь смех Ефрем. – Мы с тобой теперь равные.
– Равные, равные! – передразнил Барин. – Ах вы! Сироты казанские! Все жалуетесь – тяжело. А помещику не тяжело!? Ну, да бог с тобой!.. Что это у тебя?! – спросил он после усталым и примиренным голосом и указал на его котомку.
– Тальянка.
– Сыграй.
Парень потянулся к котомке, вынул тальянку и заиграл монотонный, но бойкий тульский мотив.
Звуки горохом рассыпались по всему трюму.
– Пой, – сказал Барин.
Ефрем кивнул головой и запел:
Гармоника злаченая,
А подати не плаченыя.
Бот вам, девки, рупь на мыло!
Расскажите, что там было!
Проклятая молотилка,
Загрустила моя милка!
Прощай, гуляй, я уеду,
Не увидишь мого следу…
– Стой! – воскликнул возбужденно Барин. – Я петь буду.
Ефрем замолчал, а Барин затянул:
Мой милашка хорош,
Был на писаря похож.
Он не пишет, не марает,
На гармонике играет!
Не пиши ты, милка, письма,
Разошлися мои мысли!..
Барин пел, и на глазах у него наворачивались слезы.
– Довольно, будет! – Он глухо зарыдал.
Парень отложил тальянку и спросил:
– Что ты?
– Ничего, вспомнил!.. Эх! Любил я эти песни! Сядешь, бывало, вечером на краю усадьбы. У ног твоих дорога винтом. Справа – деревня. Небо звездное, и кругом – тихо-тихо. Только из деревни плывут звуки. Пиликает на тальянке Митька – сын старосты, а Саша – дочь Прохора, прикладчица на всю деревню, – подпевает. Слушаешь, слушаешь, и на душе так хорошо, так покойно. Век бы слушал эту тальянку и Сашу… А хорошо, брат Ефрем, на деревне?!
– Ха-арошо! Что говорить! Только… – Ефрем вздохнул и мечтательно уставился перед собой в глубь трюма…
Несколько минут оба молчали.
Вдруг Ефрем почувствовал на своем плече руку Барина.
Он повернулся.
Глаза у Барина больше не слезились, и он тепло улыбался.
– Знаешь?! – воскликнул весело Барин.
– Что?!
– Кто старое помянет, глаз вон! Поцелуемся!
– Это можно! – улыбнулся Волк.
И они трижды и звучно поцеловались.
– Дай теперь слово, что пойдешь назад в деревню, – сказал Барин. – А то смолотит, право, смолотит. Тут у нас недолго. Помни!
– Помню, помню!
Ефрем хотел еще что-то сказать, но насторожился.
– Тсс!.. Это что шумит?
– Вода… Мы с тобой, брат, на пять аршин в воде сидим.
Ефрем посмотрел на Барина с недоверием.
– Не веришь?
– Н-не!
– А вот проткну борт, и нас затопит! – пошутил он.
– Нет, нет! – Ефрем побледнел и стремительно схватил его за руку.
– Трусишь?
Ефрем впрямь трусил.
Он поминутно вздрагивал и озирался, обуреваемый злым, щемящим предчувствием.
Холодный и пустынный трюм стал пугать его, и, наклонившись к Барину, он чуть слышно вымолвил:
– А страшно здесь! Ух, страшно! Как в могиле…
– Так и есть, могила, – подтвердил Барин. – Безымянная. Много здесь нашего брата легло. Прошлой неделей тут одного лесника насмерть задавило.
– Что ты? – содрогнулся Ефрем.
– Могила, могила! – продолжал Барин, – А знаешь, как зовут нас? Дикарями. Да, брат! Здесь люди совсем дикие. Без веры, без бога. Одна вера, один бог – водка… Ты пьешь?
– Нет.
– Будешь, – загадочно произнес Барин и замолчал.
Волку стало жутко.
Слова Барина поселили в нем страх.
«Так вот куда я попал?» – подумал он и стал беспомощно озираться.
Он оглянул все углы трюма, который после слов Барина показался ему еще мрачнее, с сильным биением сердца прислушивался к шуму и всплескам воды за бортом и, не зная, что предпринять, как выбраться из этой проклятой коробки, в бессилии оперся о свой крюк.
Через несколько минут трюм опять наполнился дикарями.
Они вернулись навеселе, и по всем их ухваткам заметно было, что они изрядно выпили.
Ефрем посмотрел на них с ужасом. Грязные, лохматые, с синими мешками у мутных, ввалившихся глаз, они производили впечатление настоящих дикарей. Они точно сорвались с какого-то неведомого острова.
– По местам! – раздался наверху голос приказчика, и прерванная работа возобновилась.
Вместо тюков, мешков и бочек теперь замелькали в воздухе пачки листового железа.
– Береги го-о-лову! – послышались частые окрики.
Эти окрики были необходимы, так как пьяные дикари бравировали и выказывали презрение к смерти. Они подворачивались под самые пачки, и пачки грозили сплющить их.
– Дикари, черти! – волновался наверху у люка капитанский помощник. – Сторонись!.. Разобьют вам пачки головы, а я потом отвечай за вас!
Дикари, однако, и в ус не дули. Один, самым невозмутимым образом растянувшись во весь рост на рогоже, дымил окурком. Пачки летели мимо, с грохотом ударяясь вершках в десяти от него. Его обдавало пылью, искрами, а он не менял своего положения и продолжал дымить, не сводя насмешливых глаз с помощника.
Другой, выкруглив спину, точно желая дать пачкам перерезать себя надвое, возился с ногой.
– Вот я вас!.. Господи! – продолжал стонать помощник.
– Ну, чего раскаркался?
– Ишь, заботливый нашелся!
– Пусть покалечит! Тебе какое дело? – огрызались и подтрунивали дикари.
Работа кипела. Слова глохли в невообразимом стуке парового крана и благовеста железа, просыпающего над головами рабочих, при раскачивании и ударах о бока люка искры.
Мелкие листы железа сменили теперь крупные – котельные, и над трюмом закачались пачки, каждая пудов в двести весом.
– Ай да наша! Поехала!
– Веселее, золотая рота!
– Р-р-р-аз умирать! – покрикивали весело дикари. Один Ефрем не поддавался общему настроению и горячке. С каждым ударом пачки о борта люка он нервно вздрагивал и с опаской поглядывал на натянутый, как струна, шкентель.