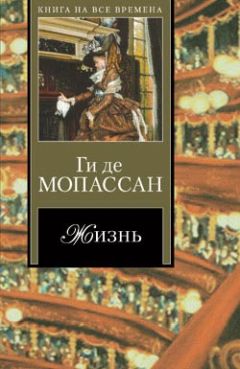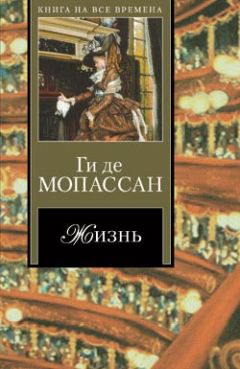За обедом один из них всполошился, заметив, что старуха опять ничего не ест. Она заявила, что у нее колики. Затем она разожгла огонь, чтобы согреться, а четверо немцев, как обычно, взобрались на ночь к себе по приставной лесенке.
Как только люк захлопнулся, старуха убрала лесенку, потом бесшумно открыла наружную дверь и натаскала со двора полную кухню соломы. Она ступала по снегу босыми ногами так тихо, что не было слышно ни звука. Время от времени она прислушивалась к зычному разноголосому храпу четырех спящих солдат.
Сочтя приготовления законченными, она бросила в очаг одну из вязанок и, когда солома загорелась, рассыпала ее по остальным вязанкам, потом вышла и стала наблюдать. Резкий свет вмиг озарил внутренность хибарки, и сразу же там запылал чудовищный костер, грандиозный горн, пламя которого било в узкое оконце и падало ослепительным отблеском на снег.
И тут сверху, с чердака, раздался отчаянный крик, перешедший в слитный вой человеческих голосов, душераздирающие вопли ужаса и смертной тоски. Затем, когда потолок рухнул внутрь, вихрь огня взвился к чердаку, прорвался сквозь соломенную крышу и поднялся к небу гигантским факелом; вся хижина пылала.
Теперь изнутри слышно было только, как гудит пожар, трещат стены и рушатся стропила. Крыша вдруг завалилась, и из огненного остова дома в воздух вместе с клубом дыма вырвался сноп искр.
Белая равнина, озаренная огнем, сверкала, как серебряная пелена с красноватым отливом.
Вдали зазвонил колокол.
Старуха Соваж стояла неподвижно перед своим разрушенным жилищем и в руках держала ружье, ружье сына, – на случай, если бы кто-нибудь из немцев выбежал.
Убедившись, что все кончено, она швырнула ружье в огонь. Раздался взрыв.
Отовсюду бежали люди – крестьяне, пруссаки. Старуху застали сидящей на пне, спокойную и удовлетворенную.
Немецкий офицер, говоривший по-французски, как француз, спросил ее:
– Где ваши постояльцы?
Она протянула костлявую руку к багровой груде гаснущего пожарища и ответила твердым голосом:
– Там, внутри!
Народ толпился вокруг нее. Пруссак спросил:
– Как загорелся дом?
– Я подожгла его, – произнесла она.
Ей не поверили, решили, что она рехнулась с горя. Тогда она рассказала теснившимся вокруг слушателям все, как было, с начала до конца, от получения письма до последнего вопля людей, сгоревших вместе с ее домом. Она подробно описала все, что перечувствовала, все, что сделала.
Кончив, она извлекла из кармана две бумажки и, чтобы различить их при последних вспышках пламени, надела очки, а затем произнесла, показывая на одну из них:
– Это о смерти Виктора.
Показывая на вторую, она пояснила, кивнув в сторону тлеющих развалин:
– Это их имена, чтобы написать к ним домой.
И, спокойно протянув листок бумаги офицеру, державшему ее за плечи, добавила:
– Напишите, как это случилось, и не забудьте рассказать их родителям, что сделала это я, Виктуар Симона по прозвищу Соваж!
Офицер по-немецки отдал распоряжение. Старуху схватили, приставили к не успевшей еще остыть стене ее дома. Потом двенадцать человек торопливо выстроились напротив нее на расстоянии двадцати метров.
Она не шевельнулась, она поняла, она ждала.
Прозвучала команда, за ней тотчас грянул залп, затем одиноко прокатился запоздалый выстрел.
Старуха не упала. Она села, как будто у нее подкосились ноги.
К ней подошел прусский офицер. Она была почти разорвана пополам, а в судорожно сжатой руке она держала письмо, пропитанное кровью.
Мой приятель Серваль добавил:
– Вот в отместку немцы и разрушили тогда дом в моем поместье.
Я же думал о матерях четырех добрых малых, сгоревших в хижине, и о жестоком геройстве другой матери, расстрелянной подле этой стены.
И я поднял с земли еще черный от копоти камешек.
Sauvage (фр.) – дикий.