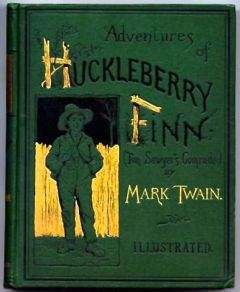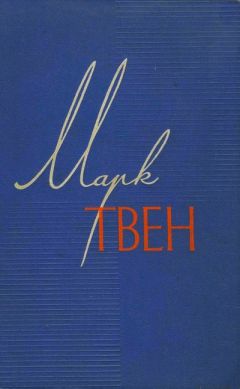— Но, странно все это! Ведь он был всегда такой добрый, простой, рассеянный, не вникал ни во что… такой миленький… словом, настоящий ангел! Что же такое с ним сотворилось?
Нам очень посчастливилось: мы попали на винтовой пароход, который шел с севера и был зафрахтован до одной бухточки или речонки на пути к Луизиане; таким образом, мы могли спуститься по всей Верхней Миссиссипи, и потом по всей Нижней, до самой фермы в Арканзасе, не пересаживаясь на другой пароход в Сен-Льюисе; это составляло, прямым путем, без малого тысячу миль.
Довольно пустынное было это судно: пассажиров было немного и все старики; они сидели все в одиночку, вдалеке друг от друга, подремывали, не шевелились. Мы ехали четыре дня, прежде чем выбрались с верховьев реки, потому что часто садились на мель; но это не было скучно… не могло быть скучно, разумеется, только для таких мальчиков-путешественников, какими были мы.
С самого начала мы с Томом догадались, что в другой каюте, рядом с нею, был больной: прислуга носила кушанья туда этому пассажиру. Наконец, мы спросили… то есть Том спросил… кто это был там? Слуга ответил, что какой-то мужчина, но что он не казался больным.
— Однако, все же мог быть болен действительно?
— Не знаю, может быть… только кажется мне, что он напускает на себя хворь.
— Почему вы так думаете?
— Да потому, что при нездоровьи он бы разделся же когда-нибудь, не так ли? А между тем этого не бывает. По крайней мере, сапог-то своих он никогда не снимает.
— Вот штука-то! Неужели даже когда спать ложится?
— Я вам говорю.
Тома сластями не корми, дай только тайну. Положите передо мною и им пряник и тайну, и вам нечего будет говорить: выбирайте! Выбор сам собой сделается. Я, само собой, ухвачусь за пряник, это у меня в природе, а он, это тоже у него в природе, накинется на тайну. У людей наклонности разные. Оно и лучше.
— А как зовут пассажира? — спросил Том у слуги.
— Филипс.
— Где он сел на пароход?
— Кажется, в Александрии, там, где примыкают рейсы из Иовы.
— Из-за чего ему притворяться, как вы думаете?
— А кто его знает… Я и не старался угадывать.
Я подумал про себя: этот тоже предпочел бы взять пряник.
— Вы не приметили за ним ничего особенного?.. В его разговоре или в обращении?
— Ничего… разве то, что он какой-то запуганный, держит свою дверь на замке день и ночь, а когда к нему постучишься, то он не впустит, прежде чем не посмотрит в щель, кто идет.
— Это любопытно, однако! Хотелось бы мне взглянуть на него. А что, если вы распахнете дверь совсем настежь, когда войдете к нему в следующий раз, и я…
— Нет, невозможно! Он всегда стоит сам вплоть за дверью и не допустит никак…
Том призадумался, но сказал:
— Так вот что, одолжите мне ваш передник и позвольте принести ему завтрак по утру. А я вам за то четверть доллара дам.
Слуга был рад-радехонек, только с условием: как бы не прогневался эконом. Том ответил, что он берет на себя уладить дело с экономом, и уладил действительно. Нам обоим было дозволено надеть передники и подавать кушать.
Том мало спал, его так и подмывало узнать поскорее тайну этого Филипса; вместе с тем, он не переставал делать разные предположения, что было совершенно излишне, по моему! Если вам предстоит узнать суть чего-нибудь, то на что же ломать себе голову догадками и, так сказать, тратить заряды попусту? Я старался спать, говоря себе, что не дам и порошинки за то, чтобы узнать, кто такой этот Филипс.
Утром, мы напялили свои фартуки, взяли по подносу с закускою и Том постучался к пассажиру. Тот чуть-чуть приотворил дверь, выглянул в эту щелочку, потом впустил нас и запер ее поспешно за нами. Но, прах побери, лишь только мы взглянули на него, так едва не выронили и подносы из рук, а Том проговорил:
— Как, Юпитер Денлап! Откуда это вас несет?
Пассажир был ошеломлен, разумеется; сначала он как будто не знал, испугаться ему или обрадоваться, но, наконец, порешил на последнее, и щеки у него опять зарумянились, а то совсем побелели. Он принялся за еду, разговаривая с нами в то же время.
— Но я не Юпитер Денлап, — сказал он — Я скажу вам, кто я, если вы пообещаетесь мне молчать. Я и не Филипс.
— На счет того, чтобы молчать, мы слово даем, но если вы не Юпитер Денлап, то вам нечего и объяснять, кто вы такой, — сказал Том.
— Почему же?
— А потому, что если вы не Юпитер, то другой близнец, Джэк. Вы вылитый портрет Юпитера.
— Ну, что же, я Джэк. Но послушайте, почему вы знаете нас, Денлапов?
Том рассказал ему все о наших приключениях у дяди Силаса в прошлое лето, и когда Джэк увидал, что мы знаем решительно все об его родне, да и о нем самом, он вовсе перестал таиться и заговорил с нами вполне по душе, не прибегая ни к каким уверткам на счет своих собственных дел; говорил, что доля его была тяжела прежде, тяжела она и теперь, да и останется тяжелою до конца его дней. Он вел опасную жизнь и…
Он вдруг содрогнулся и нагнул голову, как бы прислушиваясь. Мы оба молчали и с секунду или поболее длилась тишина; слышался лишь скрип деревянных частей парохода, да постукивание машины внизу.
Мы поуспокоили его нашими рассказами о его родине, о том, что жена Брэса умерла три года тому назад, и Брэс хотел теперь жениться на Бенни, но она ему отказала; а Юпитер нанялся в работники к дяде Силасу, только все ссорился с ним… Джэк слушал, слушал, да и рассмеялся.
— Господи, — сказал он, — как это все напоминает мне старину! Слушаю вашу болтовню и отрадно мне становится. Более семи лет не приходило ко мне ни весточки… Но как отзываются они обо мне?
— Кто?
— Фермеры… и моя семья.
— Да они вовсе ничего не говорят о вас… Так, кое-когда разве кто упомянет…
— Вот тебе раз! — промолвил он с удивлением. — Почему так?
— Да потому, что вас давно считают покойником.
— Нет?.. Правду ли вы говорите?.. Честное слово? — проговорил он, вскакивая с места в большом волнении.
— Честное слово. Никто не думает, что вы еще живы.
— Так я спасен… спасен, значит!.. Я могу воротиться домой!.. Они сокроют меня и спасут мне жизнь. А вы молчите. Поклянитесь, что будете молчать… поклянитесь, что никогда, никогда не выдадите меня!.. О, ребята, пожалейте несчастного, которого преследуют денно и нощно, и который не смеет лица показать! Я никогда не делал вам зла и не сделаю: это так же верно, как Господь в небесах! Поклянитесь же, что пощадите меня и поможете мне спасти себе жизнь!
Мы поклялись бы, будь он даже собака; как же было отказать ему?.. Он, бедняга, не зная уже, как и выразить нам свою любовь и благодарность, хорошо, что не задушил нас от радости!
Поболтали мы еще, потом он вынул небольшой саквояж и стал его отворять, только велел нам отворотиться. Мы послушались, а когда он позволил нам повернуться опять, то мы увидели, что он совершенно преобразился. Он был в синих очках и с самыми натуральными длинными темными бакенбардами и усами. Родная мать не узнала бы его! Он спросил, походит ли он теперь на своего брата Юпитера?
— Нет, — ответил Том, — ничего похожего нет, кроме длинных волос.
— Правда; я подрежу их коротко, прежде чем явлюсь туда. Юпитер и Брэс не выдадут меня, и я буду жить у них, как чужой. Соседи ни за что не догадаются. Как вы полагаете?
Том подумал с минуту и сказал:
— Мы с Гекком будем молчать, это верно, но если вы сами молчать не станете, то все же будет опасность… самая маленькая, пожалуй, а все же будет. Я хочу сказать, что голос-то у вас совершенно такой, как у Юпитера… и разве это не может заставить иных вспомнить о его брате-близнеце, которого все считают умершим, но который, может быть, скрывается все время под чужим именем?
— Клянусь св. Георгием, вы очень сметливый! — сказал Джэк. — Вы совершенно правы! Мне надо притворяться глухонемым в присутствии соседей. Хорош был бы я, явясь домой и позабыв эту малость! Впрочем, стремился я не домой, я просто искал местечка, в котором мог бы укрыться от сыщиков… там, я переоделся бы, загримировался и…
Он бросился к двери, приложился к ней ухом и стал прислушиваться, весь бледный и едва переводя дух.
— Точно взводят курок… — прошептал он. — О, что это за жизнь!
И он опустился на стул в полном изнеможении, отирая пот, струившийся у него но лицу.
С этих пор мы проводили с ним почти все время и один из нас ночевал у него в верхней койке. Он говорил, что был до крайности одинок и утешался теперь возможностью быть с кем-нибудь и развлекаться тем среди своих горестей. Нам очень хотелось узнать, в чем же именно они состояли, но Том находил, что самое лучшее средство к тому — вовсе не стараться допытываться; было весьма вероятно, что он сам начнет все рассказывать при которой-нибудь из наших бесед; если же мы станем расспрашивать, он заподозрить нас и замкнется в себе. Все вышло как раз так. Было очевидно, что ему самому страх как хотелось поговорить, но, бывало, дойдет он до самого того предмета и вдруг остановится, как в испуге, и начнет толковать совсем округом. Но случилось же однажды, что он расспрашивал нас довольно равнодушно, по-видимому, о пассажирах, бывших на палубе. Мы говорили, что знали. Но ему было все мало, он хотел больше подробностей, просил описывать в самой точности. Том принялся описывать, и когда заговорил об одном человеке, самом грубом оборванце, Джэк вздрогнул, перевел дух с трудом и сказал: