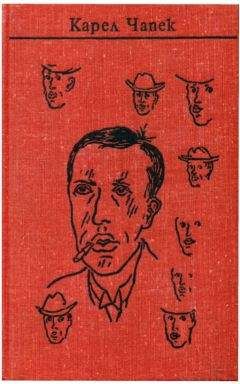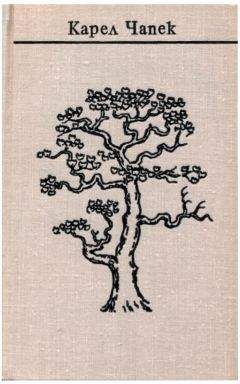В предисловии к английскому изданию «Старинных чешских преданий» Алоиса Ирасека он сам говорил, какое громадное значение для нравственного воспитания народа и самосознания личности имеют прогрессивные народные традиции, особенно традиции национально-освободительной борьбы, пафосом которой были проникнуты сказания Ирасека. Но любовь и уважение к традициям не воспрепятствовали Чапеку выработать критическое отношение к современному ему обществу, реальности которого были весьма далеки от тех мечтаний, которые издавна вынашивал в своем сердце народ. Социальное здание, которое при жизни Чапека было воздвигнуто на фундаменте национально-освободительной борьбы чехов и словаков против австро-германского владычества, было весьма несовершенно.
«Картинки родины» одновременно с блистательным описанием Праги, ее неповторимой красоты — воплощения народного гения — содержат изображение бедных кварталов, где в подвалах, убогих комнатенках ютилась нищета, изголодавшиеся, обовшивевшие дети, люди, потерявшие человеческий образ и подобие, отупевшие, безразличные к жизни, что шумела и громыхала за стенами их жалких жилищ, люди, до которых чехословацкой буржуазии, громогласно провозглашавшей свое наигранное народолюбие, не было никакого дела.
Изображение человеческого унижения исполнено у Чапека не только сострадания и мучительности. Для него очевиден страшный раскол, глубочайшая трещина, разделившая надвое — на тех, кто беден, и тех, кто имеет все, — современное ему общество, единство которого официально утверждали апологеты чехословацкой буржуазной демократии.
Со страстной убежденностью и до конца дней своих Чапек считал: первое и главное в мире, на что обязано ответить и откликнуться общество — это вопль нужды и страдания людские, от которых общество обязано избавить людей. Но откуда им, раздавленным безнадежной и бесконечной бедностью, их детям, вырастающим как попало в трущобах, среди пороков, невежества, почерпнуть силы сопротивляемости, чувство человеческого достоинства, надежду на будущее — без чего не может нормально действовать и развиваться общественный организм? В чем найти человеку опору, чтобы его общественное существование освободилось от роковых аномалий? Вот главенствующие вопросы, которые неостановимо преследовали Чапека на протяжении всей его творческой деятельности как человека и художника, предопределяя гуманистический пафос его произведений.
Чапек одновременно ощущал и красоту и боль своей родины. Он сознавал, что социальный уклад межвоенной, версальской Европы — зыбок, чреват взрывами, неустойчивостью, опасными вспышками агрессивности, остервенелого шовинизма, жестокости. Он чувствовал, что наступила переходная эпоха, несущая, несмотря на периоды временной стабилизации и относительного экономического благополучия, — кризисы, потрясшие самые основы капиталистической цивилизации.
Для него не было также тайной, что в раздираемой множественными социальными и националистическими интересами Европе разнохарактерные амбиции и претензии облекались их поборниками и носителями в форму «непреходящих» морально-этических, политических, национальных, философских ценностей, что вело к возникновению множественности, раздробленности находящихся в обращении разнохарактерных принципов, идей, декларируемых истин, претендующих на всеобщую значимость, а на деле оправдывающих или обосновывающих весьма своекорыстные, узкие цели и интересы.
Механизм формирования подобных «истин» Чапек раскрывал в своих «Побасенках» — собрании сатирических афоризмов и сентенций, которые он влагал в уста различных обобщенных басенных или извлеченных из живой политической жизни персонажей — дипломатов, демагогов, милитаристов, империалистов, диктаторов. Он обнажал в «Побасенках» демагогическую логику и способы сокрытия истинных намерений и взглядов под высокопарной, претендующей на неотразимую достоверность и правдивость, но внутренне насквозь фальшивой фразой или суждением. «Побасенки» были не только остроумны, но и беспощадно критичны и отражали его последовательное неприятие социальной демагогии. В годы, когда мир начинала захлестывать ядовитая, беспардонная, человеконенавистническая ложь, распространяемая «хромым бесом» Геббельсом и различного сорта разносчиками фашистских идеек, в том числе и доморощенными чехословацкими национал-фашистами вроде бывшего колчаковского «генерала», одного из руководителей контрреволюционного мятежа чехословацких легионеров в Советской России — Гайды, или Стршибрного, или Глинки и их присных; когда лидеры буржуазных демократий, в том числе и чехословацкие социал-реформисты, елейно провозглашая себя поборниками прав человека, защитниками свобод и законности, втихомолку вступали в сделку с рвавшимися к власти немецкими национал-социалистами, подталкивали их на агрессию и сознательно закрывали глаза на истребление ими подлинных борцов за свободу, — Чапек написал, в форме предисловия к одной книге о журналистике, памфлет на то, что он называл «фразой». Это понятие он определял не как устойчивое словосочетание — явление повседневного разговорного языка, который, разумеется, часто оперирует отстоявшимися блоками понятий, а как устойчивую ложь, укоренившуюся и автоматическую неискренность, цель которой — фальсифицировать все духовные ценности, изуродовать и извратить человеческое мышление. Ненавидя социальную демагогию, Чапек безоговорочно занимал последовательно антифашистскую позицию.
Естественно, что у писателя возникало критическое отношение к миру, которое он называл скептицизмом. Однако его скептицизм никогда не вырождался в нигилистическое всеотрицание: от этого Чапека уберегало органическое жизнелюбие, жажда приобщения к весомым, исторически значимым ценностям — прочным и неподдельным.
Критицизм и понуждал Чапека внимательно вглядываться в жизнь, отделять истины мнимые от подлинных, исследовать мир людей, без чего художник, по его мнению, вообще не может творить. Искусство Чапек всегда считал особой формой познания реальности, поэтому критицизм не стал для него средством расчленения или раздробления связной картины мира, но был орудием постижения его цельности, совокупности человеческих отношений и действий, называемых историей. Правда, это орудие не всегда служило Чапеку безотказно и верно.
Скептический критицизм возникал в его творчестве не под влиянием модных и влиятельных в пору жизни писателя философских и социологических теорий, с которыми он хорошо был знаком, получив образование на философском факультете пражского Карлова университета, куда он поступил в 1907 году.
Сама жизнь, передуманное, перечувствованное и увиденное Чапеком в годы юности и зрелости, духовный опыт, почерпнутый из громадных исторических потрясений нашего века, свидетелем и участником которых он был, — вот что стало питательной почвой его критицизма, этой неотъемлемой и характерной черты его творческого облика.
Чапек уже в ранней юности столкнулся с обветшавшими общественными порядками усталой и дряхлеющей Австро-Венгерской монархии, продолжавшей, однако, угнетать подвластные ей славянские народы и тормозить их культурное развитие. Его оппозиционность существующему порядку проявилась и в том, что еще в гимназические годы Чапек участвовал в подпольном кружке, вдохновлявшемся идеями национально-освободительного протеста и борьбы. Эпизод этот был для него неслучаен, хотя Чапек не стал революционным борцом: он не обладал ни склонностями, ни способностями к активной политической деятельности. Но и в своих ранних литературных произведениях, которые были написаны им совместно со старшим братом Йозефом, впоследствии крупным живописцем и деятелем художественной жизни в Чехословакии, Чапек тоже отгораживался от господствующей в искусстве Австро-Венгрии атмосферы, окрашенной настроениями декаданса, глубокой меланхолии и пессимизма.
Написанные братьями Чапеками в 1908–1912 годах сборники небольших рассказов, этюдов, лирических зарисовок, сентенций, стилизованных новелл «Сад Краконоша», опубликованный в 1918 году, и «Сияющие глубины», напечатанный в 1916 году, выдержаны в совершенно иной тональности. Исполненные юмора, даже озорства, жизнерадостности, они насмешничали над крайностями тогдашней литературной моды и мелкотравчатым чешским натурализмом. Размытости австрийского символизма, распространенной в литературе начала века эстетской рафинированности они противопоставили оружие пародии, особенно в стилизованных под ренессансную новеллистику рассказах из сборника «Сияющие глубины», писавшихся несколько позже миниатюр, составлявших сборник «Сад Краконоша».
Уже в этих талантливых, но еще незрелых художественных опытах братьев Чапеков давало себя знать их стремление вырваться за пределы регионального провинциализма, чего не чужда была тогдашняя пражская литературно-художественная среда, и шире включить в свои творческие интересы и поиски завоевания европейского искусства и литературы. Для ознакомления с ними братья Чапеки двинулись в Париж, где вели жизнь достаточно скромную, лишенную богемного оттенка, полную общения с великими эстетическими ценностями прошлого, которые раскрывали им парижские музеи, и со всеми злободневными новинками, щедро поставлявшимися современным искусством и литературой.