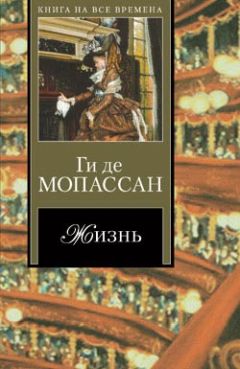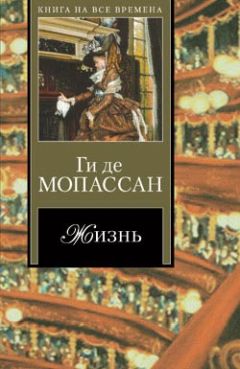Оба буржуа тотчас же дали тягу, боясь себя скомпрометировать, но легкое «пст» остановило их; то был г-н Турнево, рыботорговец: он узнал приятелей и окликнул их. Они сообщили ему, в чем дело, и это крайне огорчило его, потому что, будучи женатым человеком и отцом семейства, за которым дома строго следили, он мог приходить лишь по субботам – «securitatis causa» [1], как он говорил, намекая на некоторую санитарно-полицейскую меру, о периодическом повторении которой ему сообщил приятель, доктор Борд. Сегодня был как раз его вечер, и он таким образом лишался удовольствия на целую неделю.
Трое мужчин сделали большой крюк, дошли до набережной и по дороге повстречались с одним из завсегдатаев, молодым г-ном Филиппом, сыном банкира, а также со сборщиком податей, г-ном Пемпессом. Они вернулись все вместе через Еврейскую улицу, чтобы сделать последнюю попытку. Но разъяренные матросы вели настоящую осаду дома, швыряли в него камнями, дико вопили, и пять клиентов второго этажа со всей быстротой повернули обратно и по-прежнему стали бродить по улицам.
Им повстречался еще г-н Дюпюи, страховой агент, затем г-н Вассе, судья из торгового суда; началась длинная прогулка, которая сперва привела их к молу. Они уселись рядышком на гранитном парапете, поглядывая на барашки волн. Пена на гребне валов сверкала в сумраке ослепительно белым отблеском, мгновенно же и потухавшим; однообразный шум морского прибоя, бившего о скалы, разносился среди ночи вдоль всего скалистого побережья. Опечаленные спутники пробыли здесь некоторое время, пока г-н Турнево не заметил:
– Не очень-то это весело!
– Еще бы, – отозвался г-н Пемпесс.
И они тихонько побрели дальше.
Пройдя вдоль всей улицы Су-ле-Буа, тянувшейся над взморьем, они вернулись по дощатому мосту, перекинутому через Запруду, миновали железную дорогу и снова вышли на базарную площадь. Тут между сборщиком податей, г-ном Пемпессом, и рыботорговцем, г-ном Турнево, внезапно разгорелся яростный спор по поводу съедобного гриба, который один из них, по его словам, нашел в окрестностях города.
Истомленные скукой, они были оба в раздражительном настроении, и дело, пожалуй, дошло бы до драки, если бы не вмешались остальные. Взбешенный г-н Пемпесс удалился, но тотчас же возникли новые пререкания между бывшим мэром, г-ном Пуленом, и страховым агентом, г-ном Дюпюи, по поводу размера жалованья, получаемого сборщиком податей, и тех побочных доходов, какие он мог иметь. Оскорбительные выражения так и сыпались с обеих сторон, но вдруг разразилась буря ужасающих воплей: толпа матросов, которым надоело бесплодно дожидаться у запертого дома, выкатилась на площадь. Они шли парами, держась за руки, образуя длинную процессию, и бешено горланили. Группа буржуа укрылась в воротах какого-то дома, а завывающая толпа исчезла по направлению к аббатству. Долго еще слышались их крики, постепенно затихавшие, как удаляющаяся гроза; наконец тишина водворилась снова.
Г-н Пулен и г-н Дюпюи, обозленные друг на друга, разошлись в разные стороны, не простившись.
Остальные четверо зашагали снова и инстинктивно вернулись опять к заведению Телье. Оно по-прежнему было заперто, безмолвно, непроницаемо. Какой-то пьяница спокойно и упрямо постукивал в окно кафе и вполголоса звал слугу Фредерика. Видя, что ему не отвечают, он решил присесть на крылечке и подождать.
Буржуа собирались уже удалиться, когда шумная банда портовых моряков снова появилась в конце улицы. Французские матросы орали «Марсельезу», англичане – «Rule Britannia» [2]. Они ринулись было всей гурьбой к стенам дома, а затем озверелая толпа вновь повернула к набережной, и там завязалась драка между моряками обеих наций: одному англичанину сломали руку, а французу расквасили нос.
Пьяница, все еще околачивавшийся у двери, стал теперь плакать, как плачут люди во хмелю или обиженные дети.
Наконец буржуа разошлись.
Мало-помалу мир и тишина водворились в растревоженном городе. Кое-где еще поднимался порою гул голосов, но замирал в отдалении.
Только один человек все еще бродил поблизости: то был рыботорговец г-н Турнево, убитый тем, что ему придется ждать до следующей субботы; он все еще надеялся на какую-нибудь случайность, не мог ничего понять и негодовал на полицию, которая допускает, что общественно полезное учреждение, находящееся под ее надзором и охраной, так вот вдруг и закрыто.
Возвратясь к дому, он внимательно оглядывал его стены, стараясь разгадать загадку, и наконец увидел под навесом какой-то приклеенный билетик. Он поспешил зажечь восковую спичку и прочел следующие слова, написанные крупным, неровным почерком: «Закрыто по случаю первого причастия».
Тогда он удалился, поняв, что надеяться уже не на что.
Пьяница теперь спал, растянувшись во весь рост поперек негостеприимных дверей.
На следующий день все завсегдатаи придумали предлог, чтобы пройти по этой улице, держа для приличия под мышкой деловые бумаги; и каждый из них, бросая искоса взгляд, прочитывал таинственное объявление: «Закрыто по случаю первого причастия».
Дело в том, что у Хозяйки был брат, столярничавший в их родном селе Вирвиле, в департаменте Эр. Когда Хозяйка еще была трактирщицей в Ивето, она крестила дочь брата, которой дали имя Констанции Риве: девичья фамилия Хозяйки тоже была Риве. Зная, что дела сестры идут хорошо, столяр не терял ее из виду, хотя встречались они не часто, так как оба были заняты своим делом, да и проживали далеко друг от друга. Но девочке вскоре исполнялось двенадцать лет, и в этом году ей предстояло первое причастие. Стараясь использовать этот предлог для сближения с сестрой, столяр написал ей, что надеется видеть ее на торжестве. Старики уже умерли; не откажет же она в этом своей крестнице. Она согласилась. Брат ее, которого звали Жозеф, надеялся, что любезным и предупредительным обращением ему удастся, быть может, добиться того, чтобы сестра сделала завещание в пользу девочки: Хозяйка ведь была бездетна.
Род занятий сестры не вызывал в нем никакого беспокойства, да, впрочем, никто в его местности ничего об этом и не знал. Упоминая о ней, говорили только: «Госпожа Телье – феканская горожанка», а это позволяло предполагать, что она, может быть, живет на ренту. От Фекана до Вирвиля насчитывали не менее двадцати лье; для крестьянина же преодолеть двадцать лье по сухопутью куда труднее, чем для культурного человека переплыть океан. Жители Вирвиля никогда не ездили дальше Руана, а жителей Фекана ничем не привлекало село в пятьсот домов, затерявшееся среди равнин и входившее в состав другого департамента. Словом, там ничего не знали.
Однако, когда время причастия стало приближаться, Хозяйка оказалась в крайнем затруднении. У нее не было помощницы, а оставить свое дело без призора хотя бы на один день нечего было и думать. Раздоры между дамами верхнего и нижнего этажей неизбежно разгорелись бы; кроме того, Фредерик, конечно, напьется, а пьяный он способен был убить человека ни за что ни про что. И в конце концов она решила увезти весь свой персонал, кроме слуги, которому дала отпуск до послезавтрашнего дня.
Запрошенный по этому поводу брат не возражал и взялся устроить ночлег на одну ночь для всей компании. И вот в субботу утром восьмичасовой скорый поезд увозил в вагоне второго класса Хозяйку и ее девиц.
До Безвиля они оставались одни и трещали, как сороки. Но на этой станции к ним в отделение вошла чета супругов. Мужчина, дряхлый крестьянин в старомодном цилиндре, порыжевший ворс которого казался взъерошенным, был одет в синюю блузу с воротником в мелких складках, с широкими рукавами, стянутыми у запястий и украшенными белой вышивкой; он держал в одной руке огромный зеленый зонтик, а в другой объемистую корзинку, из которой растерянно выглядывали головы трех уток. У женщины, неподвижной и прямой в ее деревенской одежде, была куриная физиономия с острым, как птичий клюв, носом. Она села напротив своего мужа и застыла в неподвижности, смутившись, что попала в такое блестящее общество.
Действительно, яркие краски так и сияли в вагоне. Хозяйка, с ног до головы в голубом шелку, накинула на плечи красную, ослепительно огненную шаль из поддельного французского кашемира. Фернанда пыхтела в шотландском платье; лиф, еле-еле застегнутый на ней подругами, приподнимал ее отвислые груди в виде двойного купола, который все время колыхался, словно переливаясь, под натянутой материей.
Рафаэль в шляпке с перьями, изображавшей птичье гнездо с птенцами, была одета в сиреневое платье, усеянное золотыми блестками; оно носило несколько восточный характер, что шло к ее еврейскому лицу. Роза-Рожица, в розовой юбке с широкими воланами, была похожа на чересчур растолстевшую девочку, на тучную карлицу, а оба Насоса словно выкроили свои наряды из старинных оконных занавесок с крупными разводами, времен реставрации Бурбонов.