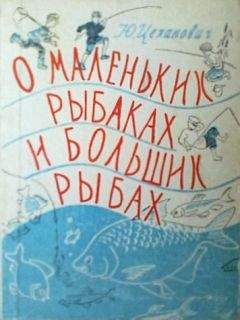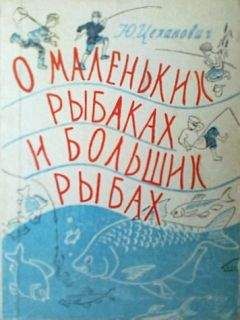чистого сердца, что люди желают только добра, однако словами тут не помочь.
Дядя был сухорукий, и на фронте от него не стало бы никакого проку. Он писал
заметки для нашей газеты, что-то вроде хроники чрезвычайных происшествий, но и от
этого пользы было мало – маленький городок, в котором всякое сколько-нибудь громкое
событие тут же передавалось из уст в уста, в новостном разделе не нуждался. Еще до
выхода утренней газеты, свежей, влажной от непросохшей краски, словно от росы, все
городские новости были перетерты и перемолоты базарными старухами, большеглазыми
юными сплетницами и любопытными мальчишками. Трамвай сошел с рельс. Загорелась
скобяная лавка. Двое грабителей вскрыли загородный дом бургомистра. Дядя не поспевал
за информационной волной, и платили ему мало.
Дядя был мамин брат, и дедушка с бабушкой жили вместе с ним в скромном
домишке на краю города. Я навещал их по выходным. Дед уже совсем не мог ходить,
бабушка, охая и скрипя непослушными старыми костями, обхаживала его, готовила
жидкие супы и гусиный паштет, кормила наглых птиц и последнюю выжившую буренку,
чисто мыла полы серыми тряпками, а дядя тем временем писал свои заметки, изредка
прерываясь на несложные хозяйственные дела – носил воду или ездил на трамвае в город
купить картошки и рыбы в базарный день.
Родителей отца мы не знали. Он не говорил о них. Однажды, когда я был еще
совсем маленьким, мой брат спросил у него за ужином в Иванов день:
– А где другие бабушка с дедушкой?
Отец помрачнел, крякнул и пробормотал что-то невнятное. А мама дернула брата за
рукав и шепнула ему на ухо – достаточно громко для того, чтобы я расслышал:
– Папе неприятно об этом вспоминать. Не спрашивай больше.
Брат пожал плечами и принялся за маринованную селедку.
С тех пор мама умерла, отец ушел на фронт и я уже отчаялся узнать что-либо о
своей другой семье.
А тем временем война подступала все ближе. Я слышал рокот снарядов и хлопки
картечи за горным перевалом, видел, как взмывает в ночную синеву алое лезвие
сигнальной ракеты, как тревожно рвет небо прожектор на эсминце, охраняющем
береговую линию. Я ждал и боялся. К тому же наш городок паниковал вовсю. С базарных
прилавков сметали пшенную крупу и смалец, запасались свечами, спичками и тугими
конопляными веревками, разбирали сахар, соль, тягучее как смоль домашнее вино,
мешками таскали древесный уголь и отруби для свиней. Помню, как двое худых стариков
передрались из-за последней пачки табака. Сестра закатывала в банки полузрелые
помидоры, сушила горные травы пучками, развесив бельевые веревки по кухне. Однажды
вечером возвратилась домой в сопровождении беснующихся дворовых псов. Она принесла
с рынка ведро бескостной, струхлившейся селедки. Полночи я вертел ручку мясорубки,
перемалывая рыбное филе в форшмак.
Тревожные вести выкрикивал газетчик, пробегая утром по нашей тихой улице:
– Враг все ближе! Враг на подступах! Не исключена эвакуация!
Нам советовали ночевать на первом этаже и при малейшей опасности спускаться в
подпол. Я снес большую часть наших пожитков в дровяной сарай и повесил на него
внушительный замок – чтобы никто не унес раньше времени. Дом опустел, только мебель
осталась на своих местах да картины, что написала мама, все еще украшали стены.
Отцовское завещание в серой папке, скрепленной синей сургучной печатью, все его
бумаги и наши с сестрой документы лежали на дне одной холщовой сумки, а скромные
фамильные драгоценности – два обручальных кольца, мамина недорогая брошь да пара
сережек с тусклыми жемчужинами – прятались в подкладке другой. Свой игрушечный
револьвер я на всякий случай тоже сложил в котомку. Было смешно и неловко – все-таки
давно уже не ребенок, но зачем-то я все же оставил любимый подарок при себе.
Вскоре началась эвакуация. Сперва пришло письмо от отца, в котором он просил
нас ничего не бояться, обещал, что через пару месяцев война закончится, он вернется и все
будет как прежде, а еще предупредил о том, что мы, скорее всего, в ближайшее время
станем полуголодными и нищими, и мы должны быть к этому готовы, никто в этом не
виноват, нужно для начала расправиться с врагом, а там уже и жизнь налаживать.
Но с врагом расправиться никак не могли. Он оказывался сильнее. На всех фронтах
он наступал, и вскоре наш мирный, защищенный, казалось, неприступными скалами и
бушующим морем городок эвакуировали. В предрассветный час заныла тревожная сирена,
взволнованно зазвонили колокола и улицы наполнились непривычным для маленьких
городов гулом машин, гомоном и криками. Сгребали пожитки в кучи, оставляли ненужное
у дороги. Многие плакали. Невыспавшиеся конвоиры-новобранцы в плохо отутюженной,
мешковатой форме грузили тюки и коробы в зеленые грузовики, выстроившись вдоль
мостовых, а по ним вышагивали строем горожане. Примчался встревоженный дядя. Лицо
его было в порезах, сочилась кровь – брился наспех. Он схватил меня за руку, другой
рукой обхватил наши с сестрой котомки и потащил по главной улице вслед за
грузовиками.
– А где бабушка с дедушкой? – испуганно пролепетал я.
– Остаются, – словно отмахиваясь, бросил дядя. – Бегом, бегом, бегом!
Племянница, жми!
Сестра остановилась у обочины, не давая пройти обалдевшим от страха соседям.
Взгляд ее, до того печальный и безнадежный, наполнился холодом, который можно было
ощутить даже в предутреннем полумраке.
– Я тоже остаюсь, – решительно вымолвила она.
– Что? – возопил дядя. – Куда, дура? Да ты знаешь, что они с тобой сделают?
– Ну и пусть. Я останусь, – твердо повторила сестра.
– Нет, пожалуйста! – взмолился я. – Ну сестричка, ну миленькая! Ну хочешь, я
всегда буду…
– Ты еще ребенок, – сестра горестно качнула головой. – Без бабушки с дедушкой…
не могу. Как ты вообще позволил им остаться? – кинулась она на дядю, словно отрезвев.
– Ты знаешь мамин характер! Ее не переспоришь! – неумело оправдывался он. –
Отец не может идти. Солдаты отказались брать его в машину. Что ж мне, на своем горбу
его тащить? Пойдем скорей!
– Я не могу, не могу! – закричала вдруг сестра.
– А ну пошевеливайтесь! – рявкнули напирающие сзади соседи.
– Я не могу… – она обессилено опустилась на корточки, закрыла руками лицо и
заплакала навзрыд. Дядя ринулся к ней и приговаривал, увещевая:
– Им ничего плохого не сделают… Им немного осталось… Переживут, вот
увидишь, переживут, и не такое переживали… А ты молодая…
– Я остаюсь… – сквозь слезы прошептала она и, сглотнув тяжелый комок в горле,
повторила холодно, звучно, глядя дяде прямо в лицо: – Я остаюсь!
– Ну и дура! – неожиданно злобно ответил он. – Марш, младший! Быстрее!
Но я уже не слушал его.
Я принял твердое решение сбежать, спрятаться где-нибудь в городе и жить
партизаном, защищая дом и своих родных. Поэтому я крепко обнял все еще бьющуюся в
истерике сестру и, подхватив наши вещи, зашагал вслед за дядей, но на первом же
повороте дал деру в закоулки. Слышал я истошные дядины крики, слышал, как солдаты
переговаривались вполголоса о том, что опоздавших ждать не будут, слышал лошадиное
ржание, сирену, рев моторов и приближающиеся залпы орудий. Окольными путями я
вернулся к дому и спрятался в соседском подвале. Сквозь узкую створку я видел, как
занимается рассвет и исчезают звезды, как они тают, наполняя своим изумительным
светом небо нового дня, как самая яркая звезда превращается в солнце, и представлял
себе, что совсем скоро стану настоящим героем, получу медаль и обо мне, может быть,
даже напишут в газете. Тогда все будут мной гордиться – и сестра, и бабушка, и дедушка.
И отец, когда вернется с фронта. И брат, которого я тогда еще считал живым. И она, она
тоже узнает, она подумает: «Какой я была дурой! Кого я променяла на этого обычного
моряка!» И тогда она бросит его, бросит и забудет, прибежит ко мне и полезет со своими
ласками, но я буду холоден, я буду безразличен, как должен быть безразличен всякий, если
его предают.
Так я и задремал на лестнице в подвал, а проснулся от того, что военный в сером
мундире схватил меня под руки. Сперва я решил, что это враги уже берут меня в плен,
стал отчаянно брыкаться, но военный ткнул меня кулаком в бок – и я обмяк.
Присмотревшись, я осознал, что мундир у него наш и надписи на нашивках выполнены
понятным языком.
– Гляди, какой дурак, – сказал военный водителю грузовика, который стоял тут же,