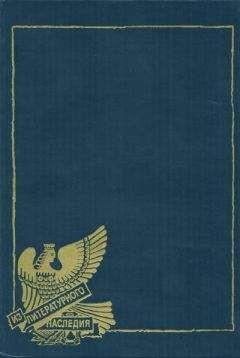От полиции помощи не было никакой, если не считать таких ее уставных действий, как рассылка по наименее вероятным адресам ложных данных. Один полицейский на меня наорал за то, что я ему надоедаю, другой ушел от вопроса, поставив под сомнение подлинность нашего свидетельства о браке из-за того-де, что печать поставлена не на той стороне. Третий, толстый commissaire[3] с растекающимися карими глазками, доверительно мне признался, что в свободное от службы время пишет стихи. Среди множества русских, живущих в Ницце или заброшенных туда войной, я отыскал несколько знакомых. Те из них, у кого, к несчастью, текла в жилах еврейская кровь, говорили о своих обреченных сородичах, которыми забивают идущие в ад поезда, и по сравнению с этим собственный мой случай начинал казаться обыкновенной легкомысленной историей, особенно когда я сидел в каком-нибудь переполненном кафе, глядя на расстилавшийся передо мной молочно-синий морской простор, а за спиной, словно в пустоте звучащей раковины, переливался гул голосов, без конца повторявших одну и ту же повесть — о бойне и боли, о сером заокеанском рае, об уловках и увертках бессердечных консулов.
Спустя неделю ко мне явился мешковатый сыщик и с невозмутимым видом повел меня кривыми и вонючими проулками к закопченному дому с надписью «Гостиница», почти уже неразличимой из-за ветхости и сажи, где, по его словам, была обнаружена моя жена. Представленная им девица, разумеется, ничего общего с женой не имела, однако мой друг Холмс некоторое время еще пытался заставить нас сознаться, что мы все-таки состоим в законном браке, а рядом, скрестив голые руки на полосатой груди, стоял, прислушиваясь, молчаливый и мускулистый ее любовник.
Когда я в конце концов от них от всех отделался и стал пробираться ближе к дому, мне случилось проходить мимо небольшой очереди, сплотившейся у входа в продовольственную лавку, и тут, с самого краю, приподнимаясь на цыпочках, чтобы получше разглядеть, что же там продают, стояла моя жена. По-моему, первые ее слова были — что хорошо бы купить апельсинов.
Она поведала мне историю не совсем внятную, зато весьма банальную. Она вернулась в Фожер и вместо того, чтобы навести справки на вокзале, где ее ждало мое письмо, отправилась прямо в комиссариат полиции. Ее приняла в свой состав группа беженцев, приютившая ее на ночь в велосипедном магазине без велосипедов, где она спала на полу с тремя пожилыми женщинами, которые лежали, по ее словам, рядком, как три колоды. Наутро обнаружилось, что у нее не хватает на билет до Ниццы, но немного денег ей, к счастью, одолжила одна из женщин-колод. Потом она села не на тот поезд и приехала в город, названия которого не запомнила. До Ниццы она добралась третьего дня, зашла в русскую церковь и там встретила друзей, которые ей сказали, что я здесь и ее разыскиваю, и должен рано или поздно объявиться.
Чуть позже, когда я сидел на краешке единственного на моем чердаке стула, обнимая ее юные бедра, а она расчесывала свои мягкие волосы, откидывая голову назад при каждом взмахе гребня, ее блуждающая улыбка вдруг странно дрогнула, и она, положив мне руку на плечо, уставилась на меня словно в отражение в пруду, впервые увиденное.
— Я тебе лгала, милый, — сказала она. — Я лгунья. Я в Монпелье провела несколько дней с черт знает что за типом, мы познакомились в поезде. Я совсем этого не хотела. Он продает лосьоны для волос.
Время, место, пытка. Ее перчатки, веер, маска. Ту ночь и много других ночей я провел, вытягивая это из нее по крохам, но так всего и не вытянув. Я впал в удивительное заблуждение, будто я должен сперва собрать все детали, восстановить каждое мгновение, а потом уже решать, в состоянии ли я это вынести. Но предела желанному знанию не наступало, и невозможно было даже предвидеть, когда бы я почел себя насыщенным, ибо знание дробно, а знаменатель каждой дроби знания столь же неисчислим, как и промежутки между самими дробями.
Ах, сперва она была слишком усталая, чтобы сопротивляться, а потом не сопротивлялась, потому что была уверена, что я ее бросил: и она, очевидно, считала, что такие объяснения будут для меня чем-то вроде утешительного приза, а не мученьем и чушью. Это продолжалось бесконечно. Она то и дело ударялась в слезы, стремительно, однако, высыхавшие, когда она задыхающимся шепотом принималась отвечать на мои непечатные вопросы или с жалкой улыбкой пыталась увильнуть в относительно безопасную область малосущественных разъяснений; я же крушил и крушил больной зуб, пока челюсть чуть не взрывалась от дикой, пылающей муки, которую я все же предпочитал тупой, ноющей, покорно переносимой боли.
И еще заметьте, что в перерывах следствия мы пытались извлечь из властей, вовсе не желавших их выдавать, документы, которые, в свою очередь, были бы основанием для получения следующих, а те позволили бы ходатайствовать далее о разрешении на затребование еще других бумаг, каковые либо дали бы, либо вовсе не дали подателю средство установить, как это случилось и почему так произошло. Ибо даже если я был в состоянии представить себе эту ненавистную, без конца повторяющуюся сцену, мне все равно не удавалось протянуть нить от угловатых гротескных силуэтов ее участников к тающей тени моей жены, — вздрагивающей, колеблющейся и в конце концов растворяющейся под моим сверлящим взглядом.
Итак, нам ничего больше не оставалось, как только терзать друг друга, а еще — часами ожидать приема в префектуре, заполнять анкеты, советоваться с друзьями, которые успели уже к тому времени прозондировать самое потаенное нутро всех возможных виз, вести тяжбы с секретаршами и снова заполнять анкеты, вследствие чего ее похотливый живчик-коммивояжер начинал воедино сливаться с мерзостным месивом из огрызающихся чиновников в крысиных бакенбардах и трухлявых связок архивных бумаг, испарений фиолетовых чернил и взяток, подсовываемых под промокательную бумагу цвета мертвечины, из жирных мух, щекочущих вспотевшие шеи быстрыми холодными ворсистыми лапками, из топорщащихся при переклеивании скверных фотографий шести ваших человекообразных двойников, из печальных глаз и настойчивой вежливости просителей родом из Слуцка, Стародуба, Бобруйска, из дыб и тисков Святейшей инквизиции и жуткой улыбки лысого господина в очках, когда ему ответили, что потерянный паспорт восстановить невозможно.
Призна́юсь, что как-то раз после отборно-гнусного дня я, опустившись на каменную скамейку, зарыдал, проклиная этот издевательский мир, в котором миллионами человеческих жизней жонглируют липкие руки консулов и комиссаров. Заметив, что она тоже плачет, я ей сказал, что все бы это не имело никакого значения, не случись того, что случилось.
— Ты скажешь, что я сумасшедшая, — отвечала она с жаром, благодаря которому она даже приобрела на мгновение черты реальности, — но клянусь тебе — ничего ведь не было. Может быть, у меня одновременно несколько жизней. Может, я тебя испытывала. Может, эта скамейка тоже сон и мы с тобой на Сатурне или в Саратове.
Было бы неинтересно возиться с описанием всех этапов, пройденных мной на пути к окончательному принятию первой версии ее приключений. Мы не разговаривали, я много времени проводил один. Она возникала из полумрака, снова в нем исчезала, потом опять появлялась с какой-нибудь безделицей в руках, которая, по ее мнению, должна была доставить мне удовольствие, — пригоршней вишен, тремя бесценными сигаретами или еще чем-нибудь подобным, и вручала мне эти дары с тем благостно-безмятежным видом, с каким безгласная сиделка хлопочет вокруг выздоравливающего привереды. Я перестал навещать большинство наших общих друзей, потому что все они как-то разом потеряли интерес к моим паспортным перипетиям, сменив его на глуховатую неприязнь. Я написал несколько стихотворений. Я пил все, что попадалось под руку. В один прекрасный день я прижал ее к своей изнывшей груди и увез в Кабуль, где мы неделю пролежали на узком пляже, засыпанном красноватой галькой. Странно сказать, но чем счастливее выглядел новый наш союз, тем острее я чувствовал подводную струю разящей грусти, но я внушал себе, что это и есть подлинный признак истинной благодати.
Тем временем что-то сдвинулось наконец в меняющихся начертаниях наших судеб, и в один прекрасный день я выскочил из сумрачной духоты приемной, вознося дрожащими руками пару полновесных visas de sortie.[4] После того как в эти самые руки впрыснута была в надлежащем порядке американская сыворотка, я кинулся в Марсель, где мне удалось добыть билеты на первый же отплывавший корабль. Воротясь домой, я с топотом взлетел по лестнице. В бокале на столе очевидной, хоть и слащавой красотой сияла роза — стебель облепили пузырьки-паразиты. Оба ее выходных платья исчезли, гребень исчез, клетчатое пальто исчезло и исчезла палевая лента с палевым бантом, которые заменяли ей шляпу. Не было приколотой к подушке записки, вообще не было в комнате ничего, что могло бы хоть немного меня надоумить, ибо роза была просто-напросто тем, что французские рифмачи называют une cheville.[5]