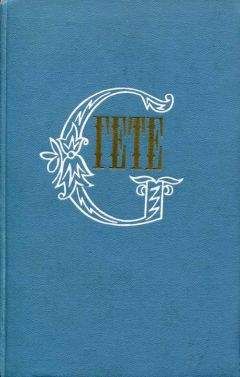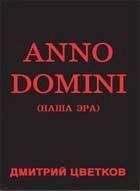С этими словами он меня покинул, и я погрузился в сострадательную печаль, покуда ранние пташки, что жили в несметных отверстиях стен, ликующим щебетанием приветствуя солнце, не пробудили меня от дремоты. Дивной свежестью светился передо мной собор в душистом сиянии утра; как радовался я, простирая к нему руки, любуясь огромными гармоническими массивами, продолжавшими жить в бесчисленных малых частицах! Как в вечных порождениях природы, здесь все — до тончайшего стебелька — является формой, отвечающей целому. Легко возносится в воздух прочное, гигантское строение, насквозь прозрачное и все же рассчитанное на вечность! Благодаря твоим поучениям, гений, у меня больше не закружится голова перед твоими безднами, ибо и в мою душу ты заронил каплю сладостного покоя, какой вкушает дух, созерцая свое творение, дух, который вправе, подобно богу, сказать: да, оно прекрасно!
Как не озлобиться мне, великий и святой Эрвин, когда немецкий искусствовед, наслушавшись суждений завистливых соседей, не осознает своего превосходства и умаляет твое творение непонятным словом «готический»? Тогда как ему следовало бы, возблагодарив господа, заявить во всеуслышанье: это немецкое зодчество, наше зодчество, ведь итальянец не вправе похвалиться самобытным искусством, а француз и подавно. Если уж ты не хочешь за собой признать это превосходство, то изволь доказать нам, что готы и вправду уже умели так строить, — но это, пожалуй, будет трудновато. Если же ты в конце концов так и не докажешь, что Гомер существовал еще до Гомера, мы охотно уступим тебе историю мелких удач и неудач и благоговейно приблизимся к творению мастера, который из отдельных частей впервые создал единое живое целое. А ты, мой милый собрат по духу, влекущему тебя к познанию правды и красоты, замкнув свой слух перед пустой болтовней о пластических искусствах, приди, наслаждайся и созерцай. Остерегись бесчестить имя благороднейшего из наших художников и спеши взглянуть на то великое, что он сотворил. Если же оно покажется тебе отталкивающим или ничего тебе не скажет, тогда прощай, вели запрягать — и кати прямиком в Париж.
Я же охотно присоединюсь к тебе, милый юноша! Ты стоишь взволнованный, не в силах примирить противоречия, которые распирают твою грудь, — то преклоняясь перед мощью великого целого, то браня меня мечтателем, видящим красоту там, где тебе видны только сила и грубость. Не позволяй недоразумению разобщить нас, не позволяй, чтобы рыхлое учение о модной красивости отстранило тебя от восприятия суровой мощи, а изнеженные чувства стали способны лишь на восхищение ничего не значащей приглаженностью. Они хотят внушить вам, что изящные искусства возникли из якобы присущей людям потребности украшать окружающие их предметы. Неправда! Ибо в том смысле, в каком это могло бы быть правдой, прибегают к таким словам обыватели, ремесленники, но не философы.
Искусство долго формируется, прежде чем сделаться красивым, и все равно это подлинное, великое искусство, часто более подлинное и великое, чем искусство красивое. Ведь человек по природе своей созидатель, и этот врожденный дар пробуждается в нем, коль скоро его существование обеспечено. Когда его не снедают заботы и страх, сей полубог, деятельный в своем покое, оглядывается в поисках материала, который он хочет оживить своим духом. Так дикарь расписывает фантастическими штрихами, устрашающими фигурками, размалевывает яркими красками кокосовые орехи, перья и свое тело. И пусть формы таких изображений совершенно произвольны, искусство обойдется без знания и соблюдения пропорций, ибо наитие придаст ему характерную цельность.
Это характерное искусство и есть единственно подлинное. Если его творения порождены искренним, глубоким, цельным, самобытным чувством, если оно живет, не заботясь ни о чем, ему чуждом, более того, не ведая о нем, — неважно, родилось ли оно из первобытной суровости или изощренной утонченности, — оно всегда останется живым и цельным. Бесчисленные традиции существуют здесь как у народов, так и у отдельных личностей. Чем больше душа наполняется чувством пропорций, — а только они прекрасны и вечны, — тем легче она постигает их закономерность, но глубины их тайн, в которых под звуки дивных мелодий блаженствует богоравный гений, она может разве что почувствовать. Чем больше искусство проникает в сущность духа, так что кажется, будто оно возникло вместе с ним и ничего больше ему и не нужно, и ничего другого он создать не может, тем счастливее художник, тем совершеннее его творения, тем ниже преклоняем мы колена перед ним, помазанником божьим.
Никто не столкнет Эрвина с той ступени, на которую он взошел. Вот высится его творение. Приблизьтесь же, чтобы познать глубочайшее чувство правды и пропорции, явленное сильной, суровой германской душой на тесной и мрачной поповской арене mediia evi[4].
А наш aevum?[5] Отрекся от своего гения, разослал своих сынов в разные стороны собирать чужеземные плоды — себе на погибель. Вертлявый и переимчивый француз умеет, по крайней мере, ловко компилировать свою добычу. Сейчас он возводит из греческих колонн и немецких сводов чудо-храм св. Магдалины. Да и у одного из наших немецких зодчих, которому поручили пристроить портал к древнегерманской церкви, я видел макет законченной, великолепной античной колоннады.
Не стану распространяться о том, как ненавистны мне наши художники, которые мастерят размалеванных кукол. Театральными позами, неестественной окраской лиц и пестротой одежд они прельстили взоры наших дам. Мужественный Альбрехт Дюрер, над тобою смеются новоиспеченные творцы, но я предпочту им самый топорный из созданных тобою образов.
И даже вы, добрые люди, которым дано наслаждаться наивысшей красотой, ныне спустившиеся с вершин возвестить о своей радости, даже вы вредите гению. Не хочет он взмывать и уноситься вдаль на чужих крыльях, будь то хоть крылья Авроры. Его собственные силы раскрываются в детских мечтах и крепнут в годы юности, покуда он не станет ловок и могуч, как горный лев, и не ринется на добычу. Потому-то гения большей частью воспитывает природа, ибо вы, педагоги, не в состоянии придумать и создать для него многообразное поле действий, на котором он мог бы радостно применить имеющиеся у него силы.
Счастлив ты, мальчик, если от природы тебе дан зоркий глаз, чтобы видеть пропорции, и ты можешь без труда упражнять свое зрение на любом создании. И когда вокруг тебя мало-помалу пробудится радость жизни и, после трудов, надежд и страха, ты познаешь ликующее человеческое счастье, когда услышишь счастливый возглас виноградаря, ибо щедрая осень наполнила вином его сосуды, увидишь веселую пляску жнеца, повесившего на стену свой праздный серп, когда под твоею кистью оживет и забьется могучий мужественный нерв страстей и страданий, когда ты поймешь, что довольно стремился и страдал, довольно изведал наслаждений и пресытился земной красотой, тебе будет дарован отдых в объятиях богини и на ее груди ты изведаешь то, что возродило богоравного Геракла, — тебя примет небесная красота, посредница между богами и людьми, так как и ты — не лучше ли Прометея? — свел с небес на землю блаженство бессмертных.
1771
Статья начата и закончена в 1771 году. Впервые напечатана брошюрой в 1772 году (но с датой: 1773). В 1773 году Гердер включил статью в составленный им сборник «О немецком духе и искусстве». В 1824 году Гете перепечатал ее в своем журнале «Об искусстве и древности» и затем в тридцать девятом томе своих сочинений (1830).
Статья посвящена готическому собору в Страсбурге и его строителю. В 1770 году, подъезжая к Страсбургу, Гете был поражен величественностью этого средневекового сооружения и сразу же по приезде в город осмотрел и изучил его (см. т. 3). Беседы с Гердером открыли Гете значение и своеобразие средневековой архитектуры. Собор стал для Гете образцом национального по духу искусства. Как истинный штюрмер, Гете считал сооружение собора результатом плана творческого гения. В летописях ему встретилось имя мастера Эрвина, которому он и приписал авторство здания. Как установлено теперь, надгробной плиты над могилой Эрвина фон Штейнбаха Гете не мог видеть, ибо она в 1770-е годы была прикрыта строительными материалами. Впервые ее раскрыл в 1816 году друг Гете Сульпиций Буассерэ (1783–1854), энтузиаст средневекового искусства. Гете без достаточных оснований приписал авторство архитектурного плана собора Эрвину фон Штейнбаху (ум. в 1318 г.), хотя несомненно, что он был в числе строителей этого здания, сооружавшегося начиная с 1015 года по XVI век. Эрвин был, судя по сохранившимся данным, создателем плана фасада собора. В летописях он обозначен только первым именем, фамилию Штейнбах ему придали только в XVI веке.
D. М. (лат.) — блаженной памяти покойного; обычная формула надгробной надписи в Древнем Риме, унаследованная европейским средневековьем.