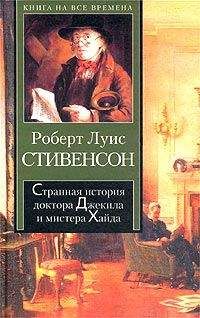— Грациа, дон Франческо.
«Что, очевидно означает «спасибо», — подумал епископ. — Но почему же дон?»
Из чужеземных пассажиров несколько очаровательных, но словно бы металлических американских дам удалились в каюты; то же самое сделала семья англичан; да собственно и все остальные. Здесь на палубе иностранный контингент был представлен лишь самим епископом и мистером Муленом, разодетым с безвкусным франтовством господином, которому, похоже, всё происходящее доставляло удовольствие. Не дуя в ус, он прогуливался по палубе якобы морской походкой, явно безразличный к мукам ближних, которых ему приходилось время от времени касаться носком то одного, то другого из его лакированных сапог, чего на раскачивающемся судне избежать было невозможно. Лакированные сапоги. Одно это определяет его целиком и полностью, подумал мистер Херд. Очередной раз проходя мимо него, мистер Мулен остановился и с жутким акцентом произнёс:
— Эта женщина с ребёнком! Интересно, что бы я сделал на её месте? Скорее всего, бросил бы его в воду. Нередко это единственный способ избавиться от помехи.
— Довольно крутая мера, — вежливо откликнулся епископ.
— А вы, похоже, не очень хорошо себя чувствуете, сэр? — с лёгким намёком на учтивость продолжал мистер Мулен. — Весьма сожалею. Я-то как раз люблю, когда посудину немного качает. Знаете, как говорят — сорной траве всё нипочём? Я, разумеется, только себя имею в виду!
Сорной траве всё нипочём…
Да, что-то сорное в нём, безусловно, присутствовало. Мистер Херд не чувствовал к нему расположения; он лишь надеялся, что на Непенте, по его представлениям не так чтобы очень просторном, им не придётся слишком часто встречаться друг с другом. Несколько вежливых слов за табльдотом привели к обмену визитными карточками — континентальный обычай, о существовании которого мистер Херд всегда сожалел. В данном случае уклониться от его исполнения было непросто. Они поговорили о Непенте, вернее, говорил мистер Мулен, епископ, как обычно, предпочитал слушать и учиться. Подобно ему, мистер Мулен никогда прежде туда не заглядывал. Само собой, он бывал на островах Средиземного моря, он довольно прилично знал Сицилию и однажды провёл две приятных недели на Капри. Однако Непенте — иное дело. Близость Африки, знаете ли, вулканическая почва. О да! Совсем, совсем другой остров. Дела? Нет! Дел у него там никаких, решительно никаких. Так, небольшая поездка для собственного удовольствия. В конце концов, есть же у человека обязательства перед самим собой, n'est-ce pas?[1]
Раннее лето, безусловно, лучшее время для такой поездки. Можно надеяться на хорошую погоду, а если станет слишком припекать, можно отсыпаться после полудня. Он заказал телеграфом пару комнат в том, что они называют самым лучшим отелем, и надеется, что тамошние постояльцы придутся ему по вкусу. К несчастью — как он слышал — в местном обществе кого только не встретишь, оно несколько чересчур — как бы это сказать? — чересчур космополитично. Возможно, виною тут географическое положение острова, лежащего в точке пересечения множества торговых путей. Ну, и потом его красоты, всякие исторические ассоциации — они привлекают самых странных туристов со всех концов света. Удивительные попадаются типы! Такие, которых, возможно, лучше всего обходить стороной. Но, в конечном итоге, разве это главное? В том и состоит преимущество мужчины — культурного мужчины, — что он всегда умеет найти что-нибудь занятное в любом из слоёв общества. Сам он предпочитает людей простых — крестьян, рыбаков; он среди них, как рыба в воде; они такие настоящие, так отличаются от нас, это очень освежает.
Эти и подобные им очаровательные и в общем довольно очевидные высказывания епископ, сидя за обеденным столом, выслушал в воспитанном молчании и со всё возрастающим недоверием. Рыбаки и крестьяне! По виду этого господина никак не скажешь, что ему интересно подобное общество. Скорее всего, он просто мошенник.
Вечером они встретились снова и немного погуляли вдоль набережной, на которой шумный оркестр наяривал оперные арии. Концерт подвигнул мистера Мулена на несколько ядовитых замечаний по части музыки латинских народов, столь непохожей на музыку России и иных стран. Этот предмет он определённо знал. Мистер Херд, для которого музыка была китайской грамотой, вскоре обнаружил, что не понимает его рассуждений. Несколько позже, в курительной, они сели играть в карты, — епископ обладал широкими взглядами и ничего не имел против джентльменских развлечений. И снова его попутчик показал себя изрядно знающим дело любителем.
Нет; нечто иное настроило епископа против мистера Мулена — несколько обронённых тем в течение вечера почти презрительных суждений относительно женского пола: не какой-то частной его представительницы, но женщин в целом. В этом вопросе мистер Херд был щепетилен. И даже жизненному опыту не удалось повергнуть его в уныние. Неприглядные стороны женской натуры, с которыми он сталкивался, работая среди лондонской бедноты, да и потом, в Африке, где к женщинам относились как к самым что ни на есть животным, не изменили его взглядов, он им этого попросту не позволил. Свои идеалы епископ сохранял в чистоте. И не переносил непочтительных замечаний по адресу женщин. От разговоров Мулена у него остался дурной привкус во рту.
И вот теперь Мулен расхаживал взад-вперёд, чрезвычайно довольный собой. Мистер Херд наблюдал за его эволюциями со смешанным чувством — к моральному неодобрению примешивались крохотные крупицы зависти, вызванной тем, что одолевающая всех остальных морская болезнь этого господина определённо не брала.
Сорняк; несомненный сорняк.
Тем временем, берег материка медленно удалялся. Утро сходило на нет, и туман, повинуясь яростному притяжению солнца, понемногу всплывал кверху. Непенте стал различимым — действительно, остров. Он мерцал золотистыми скалами и изумрудными клочками возделанной земли. Пригоршня белых домов — городок или деревня — примостилась на небольшой высоте, там, где солнечный луч, играя, проложил себе путь сквозь дымку. Занавес поднялся. Поднялся наполовину, поскольку вулканические вершины и ущелья вверху острова ещё окутывала перламутровая тайна.
Пухлый священник поднял взгляд от требника и дружелюбно улыбнулся.
— Я слышал, как вы разговаривали по-английски с этой персоной, — начал он почти без признаков иностранного акцента. — Вы простите меня? Я вижу, вам не по себе. Позвольте, я вам раздобуду лимон? Или, может быть, стакан коньяку?
— Мне уже лучше, спасибо. Должно быть, вид этих несчастных так на меня подействовал. Похоже, они ужасно страдают. И похоже, я уже свыкся с этим.
— Они страдают. И тоже с этим свыклись. Я частенько задумываюсь, ощущают ли они боль и неудобства в той же мере, что и богатые люди с их более утончённой нервной организацией? Кто может сказать? И у животных свои страдания, но им не дано поведать о них. Возможно, ради того Господь и сотворил их немыми{2}. Золя в одном из своих романов упоминает осла, страдавшего от морской болезни.
— Подумать только! — сказал мистер Херд. Этот старомодный приёмчик он перенял у своей матери. — Подумать только!
Знакомство молодого священнослужителя с Золя удивило его. Строго говоря, он был отчасти шокирован. Впрочем, он ни за что не допустил бы, чтобы это его состояние стало заметным со стороны.
— Вам нравится Золя? — поинтересовался он.
— Не очень. Он, в общем-то, свинья порядочная, а технические приёмы его торчат наружу так, что смех берёт. Однако, как человека, его нельзя не уважать. Если бы мне пришлось читать такого рода литературу для собственного удовольствия, я, пожалуй, предпочёл бы Катюля Мендеса{3}. Но дело не в удовольствии. Я, как вы понимаете, читал его, чтобы освоиться с образом мыслей тех, кто приходит ко мне с покаянной исповедью, а из них многие отказываются расстаться с книгами подобного рода. Книга порой так сильно влияет на читателя, особенно если читатель — женщина! Самому мне сомнительные писатели не по душе. И всё же порой, читая их, рассмеёшься, сам того не желая, не правда ли? Я вижу, вам действительно стало получше.
Мистер Херд невольно сказал:
— Вы очень свободно говорите по-английски.
— О, всего лишь сносно! Я проповедовал перед крупными конгрегациями католиков в Соединённых Штатах. И в Англии тоже. Матушка моя была англичанкой. Ватикан соизволил вознаградить ничтожные труды моего языка, даровав мне титул монсиньора.
— Поздравляю. Для монсиньора вы довольно молоды, нет? У нас принято связывать это отличие с табакерками, подагрой и…
— Тридцать девять лет. Это хороший возраст. Начинаешь видеть истинную ценность вещей. А ваш воротник! Могу ли я осведомиться?…
— А, мой воротник; последний след былого… Да, я епископ. Епископ Бампопо в Центральной Африке.