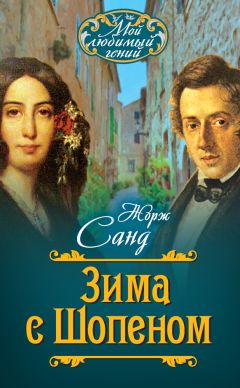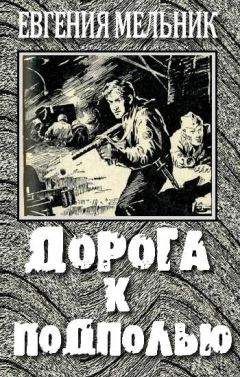Анри упал головой на колени Марсель и несколько минут оставался недвижим, словно подломившись под бременем нахлынувших на него чувств радости и признательности; но затем он резко поднялся, и в чертах его отразилось безысходное отчаяние.
— Разве печальный опыт вашего брака не был для вас достаточным уроком? — сказал он почти жестко. — Вы хотите снова подпасть под это иго?
— Мне становится страшно от ваших слов, — испуганно помолчав, вымолвила госпожа де Бланшемон. — Вы ощущаете в себе задатки деспота или сами опасаетесь ига вечной верности?
— Нет, нет, дело совсем не в том, — сокрушенно отвечал Лемор, — вам известно, чего я опасаюсь, чему я никак не могу подвергнуть вас и подвергнуться сам; но вы не хотите, не можете понять меня. Мы ведь уже столько говорили об этом, когда нам и в голову не приходило, что подобные споры в некий день приобретут для нас уже не общее, а совершенно личное значение и то, что мы обсуждаем, станет для меня вопросом жизни и смерти.
— Неужели, Анри, вы до такой степени привержены к вашим утопическим фантазиям? Как? Даже любовь не в силах взять над ними верх? Ах, как плохо умеете вы любить, вы, мужчины! — добавила она с глубоким вздохом. — Не норок, так добродетель иссушает вам душу, и, как ни кинь, оказывается, что под влиянием низменных ли, возвышенных ли побуждений вы любите только самих себя.
— Послушайте, Марсель, если бы месяц тому назад я потребовал, чтобы вы пренебрегли своими правилами, если бы моя любовь стала умолять вас о том, что в вашем представлении несовместимо с религией и нравственностью и что вы поэтому почли бы проступком чудовищным, непоправимым…
— Вы от меня не требовали этого, — произнесла Марсель, покраснев.
— Я так безмерно любил вас, что не мог потребовать, чтобы вы страдали и лили слезы из-за меня. Но если бы я поступил именно так, что тогда? Отвечайте, Марсель!
— Вопрос ваш нескромен и неуместен, — избегая прямого ответа, сказала она с милой игривостью, давшейся ей сейчас не без труда.
Ее грация и красота заставили Лемора затрепетать, и он страстно прижал Марсель к своему сердцу. Но, стряхнув с себя мгновенное опьянение, он отступил назад и, возбужденно шагая позади скамейки, на которой она сидела, заговорил снова изменившимся вдруг голосом:
— А если бы сейчас я потребовал от вас этой жертвы, которая, ввиду смерти вашего мужа, была бы, конечно, уж не такой страшной… не такой ужасной…
Госпожа де Бланшемон опять побледнела, лицо ее стало серьезным.
— Анри, — ответила она, — я бы почувствовала большую обиду, была бы оскорблена до глубины души, приди вам в голову такая мысль сейчас, когда я предложила вам свою руку, которую вы, кажется, отказываетесь принять.
— Я глубоко несчастен оттого, что не могу изъясниться так, чтобы вы меня верно поняли, и выгляжу каким-то ничтожеством, когда сам ощущаю в себе способность пожертвовать всем ради любви, — с горечью сказал он. — Эти слова, наверно, кажутся вам чересчур громкими и вот-вот вызовут у вас жалостливую улыбку. Но в них чистая правда; одному господу ведомы мои страдания… Они ужасны, я не знаю, хватит ли у меня сил терпеть их и дальше…
И он разрыдался.
Горе молодого человека было таким глубоким и искренним, что госпожа де Бланшемон испугалась не на шутку. Безудержные слезы Анри красноречивей всяких слов выражали решительный отказ от счастья, прощание навсегда с иллюзиями молодости и любви.
— Мой дорогой Анри! — вскричала Марсель. — Почему вы хотите доставить горе и себе и мне? Почему вы в таком отчаянии, когда вам принадлежит право распоряжаться моей жизнью, когда ничто не мешает нам больше принадлежать друг другу перед богом и людьми? Не сын ли мой стоит между нами? Ужели вы сами не уверены в своем душевном благородстве и сомневаетесь, что сможете распространить на него чувство, которое питаете ко мне? Вы боитесь когда-нибудь упрекнуть себя в том, что из-за вас рожденное мною на свет дитя оказалось несчастным и заброшенным?
— Ваш сын, ваш сын! — заговорил Анри сквозь рыдания. — Не того боюсь я, что он был бы мне немил. Куда страшнее то, что он был бы мне слишком дорог, и я не смог бы безучастно смотреть, как в суете мирской он вступает на стезю, противоположную моей. Почтенный обычай и общественное мнение потребовали бы, чтобы я отдал его свету, а я хотел бы вырвать его из этой среды даже ценой того, чтобы он стал несчастным, обездоленным бедняком, как я сам. Нет, я не мог бы быть по отношению к нему настолько равнодушным и черствым, чтобы согласиться сделать из него человека, во всем подобного людям его класса… Нет, нет!.. И это, и еще другое, и вообще все, при том различии, что существует между вашим и моим положением в обществе, является препятствием неодолимым. С какой стороны ни рассматриваю я такое будущее, я вижу в нем только бесконечную борьбу, несчастье для вас, проклятие себе!.. Это невозможно, Марсель, никогда не будет возможным! Я слишком сильно люблю вас, чтобы принять от вас жертву, которую вы хотите принести, не оценивая ее величины и не предвидя ее последствий. Нет, вы плохо знаете меня, Марсель. Я кажусь вам витающим в облаках, слабохарактерным мечтателем. Да, я мечтатель, но я упрям, и меня не свернуть с моего пути. Вы, возможно, не раз мысленно обвиняли меня в нарочитости моего поведения; вы полагали, что стоит вам сказать слово, и я сразу же обращусь на путь, который вы считаете истинным и разумным. О, я несчастнее, чем вы думаете, и люблю вас больше, чем вы можете сейчас себе представить. Потом… когда-нибудь потом вы будете в глубине души признательны мне За то, что я сумел быть несчастным один, без вас.
— Потом? Но почему же? Когда? Что вы имеете в виду?
— Потом, говорю я вам, потом, когда вы стряхнете с себя то наваждение, которому поддались мы оба, когда вы вернетесь в свет и вновь полной грудью вдохнете его легкий, сладостный дурман, когда, наконец, вы перестанете быть ангелом и спуститесь на землю.
— Да, да, когда меня иссушит себялюбие и вконец испортит лесть! Вот что вы имеете в виду, вот какое вы мне предвещаете будущее! В своей безумной гордыне вы считаете меня неспособной подняться до ваших идей и понять вашу душу. Скажем прямо: я, по вашему мнению, недостойна вас, Анри!
— Это ужасно — то, что вы говорите, Марсель, такая борьба между нами долее нестерпима. Позвольте мне удалиться прочь от ваших глаз, ибо сейчас мы не можем понять друг друга.
— Итак, вы покидаете меня, Анри?
— Нет, я не покидаю вас, я ухожу, для того чтобы вдали от вас созерцать ваш образ, который я уношу в своем сердце, и втайне поклоняться вам. Я буду страдать вечно, но буду питать надежду, что вы меня забудете, и, горько сожалея о том, что жаждал и добивался вашей любви, буду черпать утешение по крайней мере в том, что не совершил низости — не воспользовался вашим чувством ко мне вам во зло.
Желая удержать Анри, госпожа де Бланшемон поднялась было с места, по силы оставили ее, и она снова рухнула на скамью.
— Зачем же вы хотели встретиться со мной? — спросила она холодным и оскорбленным тоном, видя, что он совсем уже готов удалиться.
— Да, да, вы вправе упрекать меня, — отвечал он. — Напоследок я снова смалодушничал; я чувствовал, что поступаю дурно, но не мог противиться желанию увидеть ту, кого люблю, еще один раз… Я надеялся, что за это время чувства переменились в вас; молчание ваше дало мне повод поверить, что так оно и произошло; горе растравляло мне душу, и я подумал, что, быть может, ваша холодность исцелит меня. Зачем я пришел? Зачем вы любите меня? Разве я не самый грубый, не самый неблагодарный, не самый неотесанный, не самый отвратительный из людей? Но пусть лучше именно таким я выгляжу в ваших глазах; по крайней мере вы будете знать, утратив меня, что вам не о чем сожалеть… Так будет лучше, не правда ли, и я хорошо сделал, что пришел?
Анри говорил, словно в беспамятстве; его строгие, приятные черты исказились, голос, обычно глубокий и мягкий, стал хрипловатым и жестким, режущим слух. Марсель видела, что Анри страдает, но и сама страдала так тяжко, что не в силах была ни сделать, ни сказать что-либо, от чего обоим стало бы хоть немного легче. Бледная, сомкнув губы и сцепив пальцы рук, она застыла в одной позе, словно статуя. Дойдя до двери, Анри обернулся и, пораженный видом госпожи де Бланшемон, бросился к ее ногам, обливаясь слезами.
— Прощай, — воскликнул он, — прекраснейшая и чистейшая из женщин, преданнейшая подруга, несравненная моя возлюбленная! Пусть встретится тебе в этом мире сердце, достойное твоего, человек, который будет тебя любить, как я, и не принесет тебе вместо свадебных даров отчаяние и ужас перед жизнью. Будь счастлива и твори добро, не зная борьбы с тяготами, которыми полна жизнь людей, подобных мне. Наконец, если в среде, что окружает тебя, не совсем еще умерли порядочность и человечность, то да будет тебе дано оживить их своим божественным дыханием и снискать спасение для того сословия, того общества, к которому ты принадлежишь и за которое одна лишь ты можешь предстательствовать перед господом.
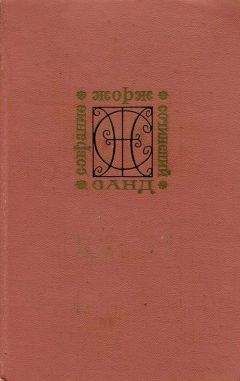
![Жорж Санд - Волынщики [современная орфография]](https://cdn.my-library.info/books/132604/132604.jpg)