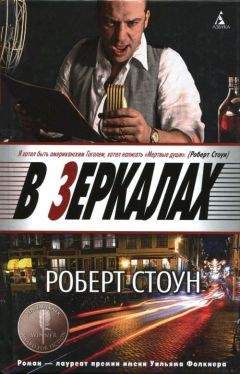— Что?
— Ничего, — сказал малый. — Я что-то посеял.
— Что сейчас думаешь делать?
— Да, наверно, позвоню в здешнее наше отделение. Они мне скажут, что делать.
Уж они тебе скажут, подумал Рейнхарт и перелез через ноги малого, чтобы стащить с багажной сетки свой чемоданчик. Прибыли на конечную станцию.
С чемоданчиком в руках он пошел к выходу через зал ожидания, где, прикорнув на скамьях, дремали, то и дело вскидывая голову, несколько изможденных оборванцев. Оглянувшись, он увидел, что продавец Библий в сдвинутой на затылок шляпе растерянно стоит среди своего товара.
— Ну, счастливо, — сказал ему Рейнхарт.
— Ага, и вам тоже, — отозвался малый.
Даже сквозь стеклянные двери чувствовалось, что снаружи холодно. Мокрый тротуар пестрел затоптанными конфетти и раскисшими в лужах полосками серпантина. Рейнхарт вспомнил, что вчера был Марди Гра и сегодня Пепельная среда, первый день поста. По мостовой через бетонные островки спасения летели обрывки утренних газет, листья окаймлявших улицу пальм мотались на ветру, как рваные карнавальные ленты.
Едва он приоткрыл дверь и студеный сырой ветер ударил ему в лицо, как на плечо его легонько, но решительно легла чья-то рука — не начальственно, мелькнуло у него в голове, а скорее деликатно.
— Bitte, sprechen Sie Deutsch? — раздался голос за его спиной.
Он обернулся: сзади стоял и улыбался хорошо одетый человек. К досаде своей, Рейнхарт начал дрожать и, должно быть, довольно заметно — улыбка на лице человека стала напряженной.
— Что? — переспросил Рейнхарт.
— Sprechen Sie Deutsch?[2]
Рейнхарт молчал и, не сводя с него глаз, шагнул назад.
— Прошу прощения, — сказал человек и заулыбался шире. — Разрешите узнать, где вы родились? — Он вынул бумажник с удостоверением; блеснул серебряный орел.
— В Пенсильвании. Город Некерсбург.
— Можно взглянуть на ваши документы?
Рейнхарт показал ему водительское удостоверение, выданное в Южной Каролине.
— Извините, что побеспокоил, — сказал человек. — Таможенно-иммиграционная служба. Разыскиваем одного человечка, по описанию похожего на вас. Он немец.
— Очень жаль, — глуповато ответил Рейнхарт, — но это не я.
— Ха-ха, — отозвался иммиграционный чиновник и пошел обратно в зал ожидания.
«Добро пожаловать в наш благословенный город, — подумал Рейнхарт. — Что сей знак предвещает?»
Помахивая чемоданчиком, он зашагал по Канал-стрит в сторону реки. Было холодно, гораздо холоднее, чем он ожидал, и к тому же его стала одолевать усталость. А вокруг разгоралась утренняя жизнь, куда-то спешили женщины в прозрачных дождевиках, и гуще становился поток машин. На трамвайных остановках толпился народ, торговцы в макинтошах, нервно оглядываясь, колдовали над замками своих лавчонок, где-то куранты вызванивали «Не оставь меня, Господи».
В сверкающем никелем аптечном кафетерии «Уолгринс» он выпил кофе и съел сэндвич с яичницей. Боже милостивый, подумал он, поглядев на себя в зеркало над стойкой. Опухшее лицо, мутные красноватые глаза. На носу уже проступают красные прожилки, нечесаные космы лезут на уши и на воротник. Ничего удивительного, что «Sprechen Sie Deutsch». Надо было поднять руки и заорать: «Kamerad»[3]. Он улыбнулся своему отражению, озадачив дебелую даму справа; на миг их смущенные взгляды скрестились на апельсиновом соке. Смотрите, мадам, смотрите, подумал Рейнхарт, — русский водолаз-диверсант, только что из гавани, фашистский снайпер, прямиком из зарослей!
— Kamerad, — пробормотал он над кофейной чашкой, и дама слегка отодвинула свой табурет.
«Спокойнее», — сказал он себе.
Он расплатился, купил в табачном киоске бутылку виски и пошел разыскивать гостиницу «Сильфиды». На последней его работе ребята говорили, что это довольно чистая и довольно недорогая гостиница — и недалеко от всех радиостудий.
Номер в «Сильфидах» и вправду оказался неплохим. Кровать вполне приличная. Письменный стол с подпалинами от сигарет, Библия, картина, изображающая охотников в красных камзолах. И радиоприемник.
На той стороне улицы в маленькой киношке, блошином питомнике, крутили фильмы «Под двумя флагами» и «Маска Димитриоса»[4].
Рейнхарт разделся и долго стоял под душем, потом вытащил свою бутылку и улегся в постель. Простыни приятно холодили тело. В чемоданчике у него — шестьдесят пять долларов, золотые часы и золотое обручальное кольцо. Вечером он включит радио, послушает местные станции и составит список. Потом отутюжит Костюм для Утренних Визитов и пойдет в кино на той стороне улицы.
Ох, черт, до чего же он устал. Лежа в постели с закрытыми глазами, он еще чувствовал автобусную тряску, видел проплывающие мимо бурые равнины, рыжую глину, круги света в ночном небе над придорожными закусочными. Он закурил и глотнул виски из стакана с умывальника.
Снаружи доносился уличный шум, под окном бодро продребезжал трамвай. «Это хоть город, и то слава богу», — подумал Рейнхарт. Давно он не был в настоящих городах — с тех пор, как уехал из Чикаго. Когда же это было? Почти полтора года назад. Позапрошлым летом он прожил в Чикаго три месяца. Потом — УКАВ в Уокигане, КХО в Карлотте, УТ и еще как там ее — в Пеории, затем Спрингфилд и затянувшееся гнусное житьишко в Эшвилле, затем Бессемер и Оранджберг — о боже, подумал он. А, ладно.
Он налил еще виски и выпил. В Городе, наверно, сейчас лежит снег, люди ходят по утоптанным дорожкам, перед Метрополитен-опера стоит и мерзнет ребятня. На Сорок шестой улице во время театрального разъезда все конные полисмены в теплых наушниках; на Пятьдесят шестой — балерины пьют горячий эспрессо. Может, если дела пойдут на лад, у него будет квартирка в Ист-Сайде или где-нибудь поблизости от Грэмерси-парка — вот где надо жить зимой. «До чего я ненавижу эти пальмы, дьявол бы их побрал». И когда не чувствуешь ног в промокших холодных ботинках, то можно вернуться к себе домой. Да, черт, он бы позвонил ребятам — Линну Расмуссену, Пег, Джо Колорису, всей своей бражке. Рейнхарт сел, улыбаясь влажными глазами.
— Город, Город, — сказал он вслух.
Он взял стакан, чтобы снова подхлестнуть себя обжигающим виски, но все равно искрящуюся рождественскую елку, по которой ныла душа, заслонили собой холодные и темные безлюдные улицы. «Даже если и было так, — думал он, стараясь превозмочь противную тошноту от виски, — даже если было время, когда ты еще мог жить такой жизнью, то теперь все кончено. Среди этих мятно-карамельных видений ты упустил одно, Рейнхарт».
Еще виски — спасибо — и сигарету… может, если еще раз встать под душ… да… но совсем неожиданно он ясно увидел девушку с серыми, очень грустными и добрыми глазами… ту девушку, что жалобно улыбалась, открывая осколок зуба, который она сломала, упав в умывалке Никербокерской больницы на другой день после того, как родила ребенка по фамилии Рейнхарт… девушку, которая внезапно пускалась бежать, когда они шли по улице, которая любила смеяться и плакала оттого, что не умеет играть на рояле, и Рейнхарт учил ее наигрывать что-то из Шопена… которая однажды пыталась бороться с ним, когда он буянил, ошалев от марихуаны, и он ударил ее раз, другой, третий, пока она не вскрикнула от боли, и тогда она положила ему руки на плечи и сказала: «Ну, тихо, тихо», и отвернула лицо — и вдруг оказалось, что он, резко вскинувшись, сидит на гостиничной кровати, его бьет дрожь, и он открыл рот, потрясенный ощущением, что за те полсекунды, когда он отвлекся от мыслей о снеге и Сентрал-парке, все его внутренности словно вырвали, растоптали и запихали ему в глотку.
— Ох, девочка, — сказал он.
Он встал и посмотрел на себя в зеркало над туалетным столиком. Его лицо — набрякшее, тяжелое, красное от виски и дрянной пищи. Он постоял перед зеркалом, снова сел на кровать, дважды подряд плеснул в стакан виски и выпил. Когда он лег, сероглазая девушка, когда-то сломавшая себе зуб, слилась в его мыслях с родными пенсильванскими холмами.
Могло случиться, что однажды, много лет назад, он промчался мимо нее в поезде… Могло случиться так: поезд проезжает угольные склады его детства, он в вагоне, а она там, снаружи; быть может, она побежала за поездом, глядя на его окошко, но конечно же поезд шел все быстрее и быстрее, она остановилась, добежав до проволочной ограды, а Рейнхарта уносило все дальше по диким степям Америки, и он не оглянулся, не увидел, как она сунула руки в карманы пальто и отвернулась. Могло ведь случиться так… а степные пространства вздымались и опускались… огни, и музыка, и мили, мили… и наконец он заснул.
Проспал он недолго. Через какие-то считаные минуты его разбудил отголосок вопля — из соседнего номера, как ему показалось. Лежа с открытыми глазами, лицом в подушку, он прислушался. Где-то, не то в соседней комнате, не то в комнате наверху или внизу, приглушенный штукатуркой и вытертыми коврами голос, не мужской и не женский, стремительно бормотал что-то невнятное. Рейнхарт попробовал вслушаться; голос становился громче, бормотанье все быстрее, и ни единого слова разобрать он не мог. Затем — несколько секунд тишины, и вдруг тот же бесполый, сдавленный от ужаса голос отчетливо выговорил: