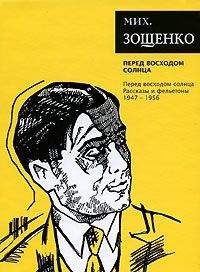Пусть, просвещенный читатель простит мои прегрешения.
II. Я: НЕСЧАСТЕН — И НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ
О горе! Бежать от блеска солнца
И услады искать в тюрьме
При свете ночника…[5]
Когда, я вспоминаю свои молодые годы, я поражаюсь, как много было у меня горя, ненужных тревог и тоски.
Самые чудесные юные годы были выкрашены черной краской.
В детском возрасте я ничего подобного не испытывал.
Но уже первые шаги молодого человека омрачились этой удивительной тоской, которой я не знаю сравнения.
Я стремился к людям, меня радовала жизнь, я искал друзей, любви, счастливых встреч… Но я ни в чем этом не находил себе утешения. Все тускнело в моих руках. Хандра преследовала меня на каждом шагу.
Я был несчастен, не зная почему.
Но мне было восемнадцать лет, и я нашел объяснение.
«Мир ужасен, — подумал я. — Люди пошлы. Их поступки комичны. Я не баран из этого стада».
Над письменным столом я повесил четверостишие из Софокла:
Высший дар нерожденным быть,
Если ж свет ты увидел дня —
О, обратной стезей скорей
В лоно вернись родное небытия.[6]
Конечно, я знал, что бывают иные взгляды — радостные, даже восторженные. Но я не уважал людей, которые были способны плясать под грубую и пошлую музыку жизни. Такие люди казались мне на уровне дикарей и животных.
Все, что я видел вокруг себя, укрепляло мое воззрение.
Поэты писали грустные стихи и гордились своей тоской.
«Пришла тоска — моя владычица, моя седая госпожа»,[7] — бубнил я какие-то строчки, не помню какого автора.
Мои любимые философы почтительно отзывались о меланхолии. «Меланхолики обладают чувством возвышенного»,[8] — писал Кант. А Аристотель считал, что «меланхолический склад души помогает глубокомыслию и сопровождает гения».[9]
Но не только поэты и философы подбрасывали дрова в мой тусклый костер. Удивительно сказать, но в мое время грусть считалась признаком мыслящего человека. В моей среде уважались люди задумчивые, меланхоличные и даже как бы отрешенные от жизни.[10]
Короче говоря, я стал считать, что пессимистический взгляд на жизнь есть единственный взгляд человека мыслящего, утонченного, рожденного в дворянской среде, из которой и я был родом.
Значит, меланхолия, думал я, есть мое нормальное состояние, а тоска и некоторое отвращение к жизни — свойство моего ума. И, видимо. не только моего ума. Видимо — всякого ума, всякого сознания, которое стремится быть выше сознания животного.
Очень печально, если это так. Но это, вероятно, так. В природе побеждают грубые ткани. Торжествуют грубые чувства, примитивнее мысли. Все, что истончилось, — погибает.
Так думал я в свои восемнадцать лет. И я не скрою от вас, что я так думал и значительно позже.
Но я ошибался. И теперь счастлив сообщить вам об этой моей ужасной ошибке.
Эта ошибка мне тогда чуть не стоила жизни. Я хотел умереть, так как не видел иного исхода.
Осенью 1914 года началась мировая война, и я, бросив университет, ушел в армию, чтоб на фронте с достоинством умереть за свою страну, за свою родину.
Однако на войне я почти перестал испытывать тоску. Она бывала по временам. Но вскоре проходила. И я на войне впервые почувствовал себя почти счастливым.
Я подумал: отчего это так? И пришел к мысли, что здесь я нашел прекрасных товарищей и вот почему перестал хандрить. Это было логично.
Я служил в Мингрельском полку Кавказской гренадерской дивизии. Мы очень дружно жили. И солдаты, и офицеры. Впрочем, может быть, тогда мне так казалось.
В девятнадцать лет я был уже поручиком. В двадцать лет — имел пять орденов и был представлен в капитаны.
Но это не означало, что я был герой. Это означало, что два года подряд я был на позициях. Я участвовал во многих боях, был ранен, отравлен газами. Испортил сердце. Тем не менее радостное мое состояние почти не исчезало.
В начале революции я вернулся в Петроград. Я не испытывал никакой тоски по прошлому. Напротив, я хотел увидеть новую Россию, не такую печальную, как я знал. Я хотел, чтобы вокруг меня были здоровые, цветущие люди, а не такие, как я сам, — склонные к хандре, меланхолии и грусти.
Никаких так называемых «социальных расхождений» я не испытывал. Тем не менее я стал по-прежнему испытывать тоску.
Я пробовал менять города и профессии. Я хотел убежать от этой моей ужасной тоски. Я чувствовал, что она меня погубит.
Я уехал в Архангельск. Потом на Ледовитый океан — в Мезень. Потом вернулся в Петроград. Уехал в Новгород, во Псков. Затем в Смоленскую губернию, в город Касный. Снова вернулся в Петроград…
Хандра следовала за мной по пятам.
За три года я переменил двенадцать городов и десять профессий.
Я был милиционером, счетоводом, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем.
Это было не твердое шествие по жизни, это было — замешательство.
Полгода я снова провел на фронте в Красной Армии — под Нарвой и Ямбургом.
Но сердце было испорчено газами, и я должен был подумать о новой профессии.
В 1921 году я стал писать рассказы.
Моя жизнь сильно изменилась оттого, что я стал писателем. Но хандра осталась прежней. Впрочем, она все чаще стала посещать меня.
Тогда я обратился к врачам. Кроме хандры, у меня было что-то с сердцем, что-то с желудком и что-то с печенью.
Врачи взялись за меня энергично.
От трех моих болезней они стали меня лечить пилюлями и водой. Главным образом водой — вовнутрь и снаружи.
Хандру же было решено изгонять комбини рованным ударом — сразу со всех четырех сторон, во фланги, в тыл и в лоб — путешествиями, морскими купаниями, душем Шарко и развлечениями, столь нужными в моем молодом возрасте.
Два раза в год я стал выезжать на курорты — в Ялту, в Кисловодск, в Сочи и в другие благословенные места.
В Сочи я познакомился с одним человеком, у которого тоска была значительно больше моей. Минимум два раза в год его вынимали из петли, в которую он влезал, оттого что его мучила беспричинная тоска.
С чувством величайшего почтения я стал беседовать с этим человеком. Я предполагал увидеть мудрость, ум, переполненный знаниями, и скорбную улыбку гения, который должен уживаться на нашей бренной земле.
Ничего подобного я не увидел.
Это был недалекий человек, необразованный и даже без тени просвещения. За всю свою жизнь он прочитал не более двух книг. И, кроме денег, еды и баб, он ничем другим не интересовался.
Передо мной был самый заурядный человек, с пошлыми мыслями и с тупыми желаниями. Я не сразу даже понял, что это так. Сначала мне показалось, что в комнате накурено или барометр упал — предвещает бурю. Как-то мне было не по себе, когда я с ним разговаривал. Потом смотрю — просто дурак. Просто дубина, с которым больше трех минут нельзя разговаривать.
Моя философская система дала трещину. Я понял, что дело не только в высоком сознании. Но в чем же тогда? Я не знал.
С величайшим смирением я отдался в руки врачей.
За два года я съел полтонны порошков и пилюль.
Я безропотно пил всякую мерзость, от которой меня тошнило.
Я позволил себя колоть, просвечивать и сажать в ванны.
Однако лечение успеха не имело. И даже вскоре дошло до того, что знакомые перестали узнавать меня на улице. Я безумно похудел. Я был как скелет, обтянутый кожей. Все время ужасно мерз. Руки у меня дрожали. А желтизна моей кожи изумляла даже врачей. Они стали подозревать, что у меня ипохондрия в такой степени, когда процедуры излишни. Нужны гипноз и клиника.
Одному из врачей удалось усыпить меня. Усыпив, он стал внушать мне, что я напрасно хандрю и тоскую, что в мире все прекрасно и нет причин для огорчения.
Два дня я чувствовал себя бодрей, потом мне стало значительно хуже, чем раньше.
Я почти перестал выходить из дому. Каждый новый день мне был в тягость.
День приходил, день уходил —
Шли годы — я их не считал,
Я, мнилось, память потерял
О переменах на земле…[11]
Я еле передвигался по улице, задыхаясь от сердечных припадков и от болей в печени.
На курорты я перестал ездить. Вернее, я приезжал и, промаявшись там два-три дня, снова возвращался домой, еще в более страшной тоске, чем приехал.
Тогда я обратился к книгам. Я был молодым писателем. Мне было всего двадцать семь лет. Естественно, что я обратился к моим великим товарищам — к писателям, музыкантам… Я хотел узнать, не было ли чего подобного с ними. Не было ли у них тоски вроде моей. А если было, то по каким причинам это у них возникало, по их мнению. И как они поступали, чтобы этого у них не было.