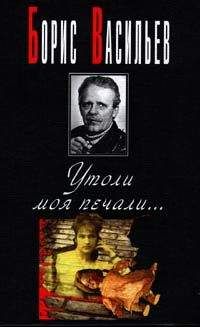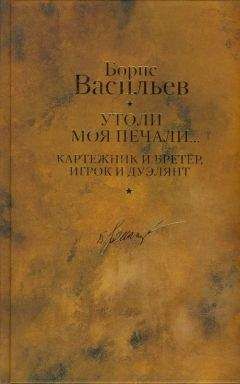Ознакомительная версия.
Отец и мама тоже умерли не в постелях, но их фотографий в альбоме не оказалось: отец терпеть не мог новомодных штучек. Было два портрета хорошей кисти в большой гостиной их двухэтажного барского дома в Высоком. Суровый мужчина с горделиво вскинутым подбородком и милая синеглазая крестьяночка с ямочками на тугих, как антоновка, щеках. А фотографии братьев и сестер были все до единой: за этим очень следила Варя. Даже фотография Владимира, раньше всех погибшего на дуэли…
А потом Наденька переехала в Москву, и ее тут же отправили в самую дорогую частную гимназию мадам Гельбиг: на этом настояла Варя. В ней учились на целый год дольше, чем в обычных, и каждый день – два раза по получасу – занимались противной немецкой гимнастикой. Надя ее терпеть не могла, но старалась изо всех сил, потому что Николай – к тому времени уже юнкер – сказал:
– Гимнастика – тренировка воли, а не тела. Через «не могу», «не хочу», «не желаю».
– А зачем женщинам воля? – Наденька безмятежно пожала плечиком. – Женская сила в нежности.
– Воля – основа культуры. Животные ею не обладают, Наденька, потому что им незачем обуздывать свои страсти.
До страстей было, правда, еще далеко, но Надя совета послушалась. Может быть, потому, что любила Колю чуть-чуть, самую чуточку больше остальных братьев. За подкупающую непосредственность.
– Это у него от мамы, – говорила Варвара. – Наша мама, царствие ей небесное, была непосредственна, как сама природа.
Ваня тоже был непосредственным и увлекающимся, но… Все в нем сгорело, когда Леночка, уже дав согласие стать его женой, внезапно сбежала чуть ли не с первым встречным, и Иван недолго продержался после этого. Стал попивать, потом оставил службу, заперся в Высоком, как когда-то отец в Москве. Только отец за жизнь в добровольном затворе получил любовь и детей, а Иван – тоску и пьянство, постепенно превращаясь в «шута горохового».
Так называл Ивана Федор, и Наденька относилась к преуспевающему братцу Федору с прохладцей. О нем, вообще, избегали говорить в семье, и она понимала почему. Федор Олексин определил смысл собственной жизни как восхождение по лестнице чинов и званий, полагая карьеру единственной высокой целью. Прочие же полагали целью жизни служение народу, личное достоинство или незапятнанную честь, хотя об этом и не говорили. А о карьере говорить приходилось, поскольку такая цель не выглядела самодостаточной в умах и настроениях общества и, следовательно, требовала объяснений. И Федор неустанно толковал о собственных успехах, скорее оправдываясь, нежели объясняясь.
– Понимаешь, товарищ министра попросил. Именно попросил ради пользы государства. Можно ли отказать было?
Карьера всегда оправдывалась только делами государственными, а все остальное – даже служба в армии – в оправданиях не нуждалось, воспринимаясь естественно, как воспринимался долг. Наденьке как-то сказал Василий, что отец очень любил повторять старшим – ему, Гавриилу, Владимиру и Федору:
– Занятия, достойные дворянина, – шпага, крест да книга.
Шпагу избрало большинство ее братьев: погибшие Владимир и Гавриил, теперь – Георгий и Николай. А Федор, поначалу цепко ухватившись за нее, вскоре, однако, заменил шпагу мундиром, но Олексины внутренне не восприняли этой замены. И не могли воспринять.
Впрочем, не все одинаково. Николай скорее жалел брата, углядев в его выборе роковую ошибку, и всячески старался растопить образовавшийся семейный ледок:
– А так ли уж волен человек в своих желаниях? Иногда обман зрения манит ярче, нежели то, что есть на самом деле.
Генерал Федор Иванович изо всех сил сдерживал личные обиды, но от тесных семейных связей все же как-то отошел. Исключение было одно: теплее всех он относился к Николаю. И не только потому, что тот искренне стремился хоть как-то оправдать его карьерную целеустремленность, а скорее за саму искренность. И когда Николай, отнюдь не шедший под первым номером в училище, лишен был права выбора места службы по выпуску и довольствовался заштатным гарнизоном, Федор сделал все, чтобы через положенные два года службы по распределению перевести его в Москву.
Правда, с точки зрения Вари, это было сделано поздно. Николай успел жениться в той Тьмутаракани, где служил, и привез с собою очаровательную провинциалочку из мещан. Ко времени возвращения этого семейства Хомяков уже успел отгрохать в центре Москвы особняк, поразивший своей оригинальностью не только горожан. И в светском обществе зашептались:
– Какая безвкусица!
– Что ж вы хотите, миллионы демонстрируются.
– Демонстрируется золотой зуб в белоснежной улыбке первопрестольной.
– Фо па1, господа. Фо па!
А мещаночка Анна Михайловна потеряла голову в первое же посещение:
– Я деткам своим буду рассказывать про ваше великолепие!
Варю это сразило наповал, однако брат оставался братом. Анна Михайловна приехала в первопрестольную, как говорится, в интересном положении, но роды оказались не совсем удачными. Девочка Оленька получила легкую хромоту на всю жизнь, а ее родители – тяжкое ощущение вины.
А крест, о котором говорил отец, как о достойном дворянина занятии, достался Василию. Вольнодумцу, идеалисту, деятельному народнику в прошлом, искренне пытавшемуся заменить веру в Бога верой в людей. Замена не удалась, он вернулся к Богу, но иной, неофициальной тропой. Познакомившись и сблизившись с графом Толстым, уверовал в его учение и строго следовал ему примером личной жизни, без проповедей и колокольного звона утверждая заветы гениального своего друга и Учителя. И все в семье понимали, что избранный Василием крест был куда тяжелее всех прочих.
– Понимаешь, церковь взвалила крест на плечи Господа и стрижет купоны, пока Христос в муках тащит крест на Голгофу. А наш Вася взвалил этот крест на собственную спину и сам несет его на свою Голгофу.
Так сказал Наденьке Иван, умница Ваничка, когда она приехала в Высокое помечтать и подумать перед началом последнего гимназического года. Он и тогда выпивал, но еще не спился с круга и, как показалось Наде, еще способен был верить в чудо. Во внезапное, как в сказке, возвращение Леночки. Наденька поняла это ожидание, и зная, что чуда не будет, почему-то начала готовить брата с несколько необычной стороны:
– А зачем Бог, когда все пружины заведены?
– Извини, сестренка, что-то я не очень тебя понял.
– Дядя Роман подарил мне часы с фигурками: от одной до двенадцати. Когда я завожу пружину, они каждый час начинают вальсировать. А жизнь – это же и есть заведенный Божьей пружинкой вальс. И когда подходит твой час, ты просто начинаешь танцевать, и тебе уже не нужен никакой Бог.
– Батюшки, как же изящно ты мне все объяснила, – улыбнулся Иван.
Наденька была рада, что он улыбнулся. Уж очень редко теперь появлялась улыбка на его заросшем исхудалом лице.
А вот с книгой – в отцовском понимании – никто из Олексиных так и не встретился. Не стал ни писателем, ни мемуаристом, ни журналистом, ни даже книгоиздателем. И тогда, в Высоком, Надя часто думала об этом, хотя подружки по гимназии думали совсем о другом.
3
– А он что сказал?
– А он так посмотрел, так посмотрел!
Все девичьи интересы вертелись вокруг «что сказал» и «так посмотрел», и Наденькины тоже. Но на нее почему-то никто из мальчиков «так» не смотрел, и это было обидно до слез.
Еще в четвертом, что ли, классе подружка пригласила ее погостить в их подмосковном имении, и Варя разрешила. Там было много детей, но самое главное, там был «Он». Тот, который просто обязан был, по ее разумению, «так посмотреть». Наденька томно вздыхала, кокетливо обмахивалась веером, закатывала глаза и даже мелко-мелко рассыпала смешок, как то советовали подружки.
– Ах, как это забавно! Право, забавно!
А он не смотрел. Приносил по ее просьбе лимонад, шоколад, зонтик, специально забытую книжку, но смотрел на другую девочку. Этакую толстую дылду, совершенно неинтересную, с Надиной точки зрения. Она отревывалась по ночам, а с утра начинала все сначала.
– Как вам нравится «Манон Леско»?
– Неопределенно, мадемуазель.
– Помните, там…
– Извините, не помню. И позвольте откланяться.
И тут же устремлялся на вызывающий хохот дылды. Катал ее на качелях, а Наденьку не катал. Ни разу. Причем не катал именно «Он» – другие катали. Но другие, они другие и есть.
Требовалось предпринять нечто экстраординарное, и Наденька решила пропасть, потеряться. Пусть побегают, тогда заметят. И после ужина спряталась в саду.
Вечер был теплым, комары кусались, как оглашенные, но Наденька терпела. Стали звать – все равно молчала. Темнело быстро, поднялся ветер, зашелестел сад, и все бросились на поиски.
Когда тебя ищут, значит, беспокоятся, и это – приятно. Сразу делаешься центром внимания без особых хлопот, если хорошо спряталась. А спряталась она очень даже хорошо, правда, к большому сожалению, не от комаров.
Ознакомительная версия.