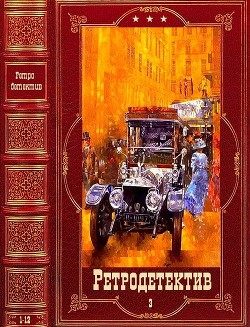страшную пустоту, тяжесть бесцельной, однообразной жизни с Тихоном Ивановичем. Прежде она почему-то вовсе не чувствовала болезненного чувства неудовлетворенности от того, что жила день за днем, однообразно и скучно; теперь же это чувство развилось до громадных размеров.
«Господи! Что же будет дальше? – думала она, и болезненная тоска все возрастала. – Неужели я теперь погребена и на целую, да, на целую жизнь осталась в Ельце?.. Неужто дни будут проходить так же бесцельно? Вот теперь зима, потом весна, лето, и опять все сначала. И весна, и зима, и лето – я наперед знаю, как пройдут. Те же дни, тот же обед, сцены после обеда до тусклых сумерек?!» – Она села на кровать и вздернула плечами… Она боялась даже дальше думать об этом.
Какою поэтичною, хорошею казалась ей теперь ее жизнь у отца! В деревне, на воле вовсе нет такой тяжелой и однообразной жизни… Вот теперь зима… Разве прежде зима оставляла на нее такое впечатление?.. Нет, она даже страшно любила ее прежде, любила холодные, серые дни, необъятные, пустынные снежные поля, любила долгие вечера… В комнате тихо. Тихо так, что слышишь, как шипит керосин в горящей лампе… Отец сидит на лежанке и наигрывает на гитаре полудремотные, полугрустные мелодии; в сердце поднимается какое-то хорошее, но смутное, неопределенное чувство, кажется, что вспоминается что-то далекое и милое, кажется, что сердце со всем примиряется и только просит этого меланхолического сладкого раздумья…
Так, или приблизительно так, думала Надежда Федоровна, и от этого ей становилось еще тяжелее… Как она ненавидела в эти минуты город, свою квартиру и больше всего Тихона Ивановича!
Являлось даже смутное желание отомстить ему.
Она вспомнила о соседе, учителе уездного училища, молодом, скромном человеке, который, как она успела заметить, был влюблен в нее… «А ведь он милый», – подумала она и закрыла глаза… Мысли о том, как бы он стал любить ее, ласкать, целовать руки, сидеть с нею по вечерам наедине, пошли бесконечною чередою. Машинально она встала и взяла с окна чернильницу и бумагу с твердым намерением написать ему ласковое письмо с просьбою прийти, посетить ее вечером и т. п.
Но когда она взяла уже перо и села к столу, ей расхотелось писать. Она бросила перо и опять прилегла на кровать.
Часа в два ночи она услыхала, что вернулся Тихон Иванович; раздевшись в передней, он зажег лампу и куда-то прошел с нею по комнатам. Потом вошел в спальную, поснимал с себя платье и, что-то бормоча и сопя, лег около нее. Она молчала как убитая…
В комнате было темно и тихо.
Только слышался шум ветра; на дворе стояла вьюга.
«Господи, завтра все это опять повторится!» – подумала она, уже начиная дремать…
…Не думайте, что это рассказ из сибирской жизни, из жизни какой-нибудь якутской или бурятской слободы. Я передаю про одну нашу соседку в одной из деревенек Орловской губернии, старую деву-помещицу. Может быть, эта соседка покажется читателям небезынтересною.
Начну с наружности.
Видали вы безобразных старых цыганок? Они по большей части худы и остроносы, глядят как-то странно и дико, одеты в какие-то ветхие, нанизанные друг на друга хламиды, рукава которых обыкновенно разорваны чуть не надвое… Если видали, то очень легко можете себе представить наружность Олимпиады Марковны, или «Шамана», как прозвали ее наши соседи-помещики из «новых». Она и одеждою, и лицом, и странным выражением глаз страшно похожа на подобную цыганку. Только не всякая цыганка обладает ее странными умственными способностями и ее характером.
Какой же характер у Олимпиады Марковны – добрый или злой, подлый или благородный? На этот вопрос ответить определенно не берусь. Характеры лиц, подобных ей, очень трудно поддаются определению. У Олимпиады Марковны все зависит от настроения – семь пятниц на одной неделе. Сейчас она вас уважает, любит, хвалит, рассказывает повсюду, что вы самый умный человек, первый красавец в округе; и все это вполне искренне. Но чуть что-нибудь не по ней, чуть вы немного повздорили с нею – и у ней сразу меняется убеждение о вас: именно «у ней меняется», а не «она меняет». Тогда она опять-таки искренно убеждена, что вы и дурак, и негодяй, и все что угодно. Она везде рассказывает про вас самые низкие сплетни, говорит, что вы дурак, безобразный, «лупоносый», «раскосый» и т. д. и т. д. И я убежден, что в такие минуты вы ей кажетесь действительно и «лупоносым» и «раскосым», хотя на самом деле вы нисколько не «лупоносый». Одним словом, она вовсе не привыкла составлять о чем-нибудь раз навсегда определенное мнение.
Причина странностей подобных лиц, разумеется, понятна: умственные способности играют у них очень малую роль, а если и играют, то опять-таки очень странную. Олимпиада Марковна в особенности страдает отсутствием самой примитивной логики. Но, впрочем, лучше всего – факты. Я приведу для примера хотя бы две или три сцены из тех, которые происходят в нашем доме по крайней мере раза три в неделю, потому что Олимпиада Марковна, считаясь нам какою-то дальней родственницей, бывает у нас почти ежедневно. Мы так к ней привыкли, что на самом деле считаем ее родною.
Сидим, например, мы все за обедом. С нами сидит и Олимпиада Марковна в своем необыкновенном костюме. Ест она много, как бурят, с какою-то странною жадностью и торопливостью. Поэтому начало обеда, когда Олимпиада Марковна увлечена каким-нибудь супом или заливным, проходит в молчании. Но это только до известного момента; откинувшись на спинку стула, Олимпиада Марковна наконец вздыхает и улыбается.
– Вот напхалась-то! – говорит она с видимым наслаждением.
Отец нахмуривается.
– Что это у тебя, Олимпиада Марковна, за выражения! – говорит он недовольно.
Олимпиада Марковна совершенно наивно взглядывает на него.
– Какие, батюшка, выражения?
Отец махает рукой и отвертывается. Олимпиада Марковна вдруг ни с того ни с сего обращает свой взор на меня и как-то по-детски восклицает:
– Ах, какой красавец Ванечка-то стал!
Я наклоняю голову к тарелке.
– Да, ей-богу, получше тут всех, – продолжает таким тоном Олимпиада Марковна, как будто кто-нибудь возражает, – ей-богу, красавец, – упорствует она.
И при этом она ласково треплет меня по голове, цепляя рукавами себе в тарелке.
– Отставь от себя, пожалуйста, тарелку, – замечает отец.
– Зачем, батюшка?
– Она ведь тебе мешает.
– Нисколько не мешает, – возражает Олимпиада Марковна и прибавляет в раздумье, улыбаясь: – Поручик Немешаев… у Евгения на свадьбе плясал. Ей-богу, Ванечка! «Ей-же-ей», как девки знаменские говорили… Помнишь, Алешенька?
– Отстань ты от меня с глупостями, – сердито говорит отец, – не помню я ничего.
– Да как же,