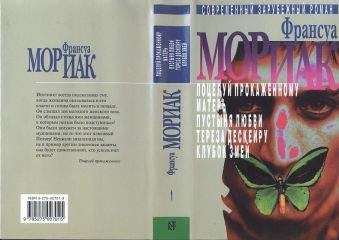Но с того вечера, как в Мюзик-Холле ее публично оскорбили женщины, она перестала бывать где бы то ни было, исключая концерты общества св. Цецилии. Любовницы местных тузов ненавидели ее за то, что она не желала терпеть их общество. Только одна из них на несколько дней снискала ее благосклонность — та самая Габи Дюбуа, показавшаяся ей «возвышенной душой» после того, как они однажды вечером обменялись несколькими словами в «Красном льве», куда ее затащил Ларуссель. Шампанское немало способствовало возвышению души Габи Дюбуа. В течение двух недель молодые женщины виделись ежедневно. Мария Кросс с терпеливым ожесточением, хотя и тщетно, пыталась порвать узы, привязывавшие ее приятельницу к другим людям. На одном из утренних спектаклей «Аполлона», куда Мария пришла, поддавшись приступу скуки, и, как всегда, сидела в ложе одна, привлекая к себе взгляды всего зала, она услышала в партере резкий смех Габи, потом засмеялись другие, до Марии донеслись обрывки негромко произнесенных оскорблений: «Эта потаскуха разыгрывает из себя королеву... эта... а прикидывается недотрогой... Марии вдруг показалось, что она больше не видит в зале ни одного человеческого профиля — только обращенные к ней звериные морды. Когда в театре опять погасили свет и глаза зрителей приковала к себе обнаженная танцовщица, Мария тихонько сбежала.
Ее маленького Франсуа с ней больше нет, и теперь она никуда не пойдет. Вот уже год, как его не стало, и только он один еще может заставить ее выйти из дому, только эта каменная плита, не длиннее детского тельца, хотя для того, чтобы к ней подойти, надо миновать аллею с указателем: «Великие». Но на пути к мертвому мальчику ей суждено было встретить живого.
В воскресенье утром бушевал ветер, но не из тех ветров, что лишь раскачивают верхушки деревьев: налетая порывами с юга, от моря, он с неодолимой силой заволакивал небо сплошным темным полотнищем. Только одинокий голос синицы открыл Марии, что тысячи птиц молчат. Тем хуже, она останется дома: юный Курреж получил ее письмо, она уже знает, насколько он робок, и может не сомневаться в его послушании. Если бы она даже не писала ему, он наверняка не решился бы войти в эту калитку. И она улыбнулась, вспомнив, как он ввинчивал каблук в песок аллеи и упрямо повторял: «А садовник?» Сидя в одиночестве за завтраком, она прислушивалась к шуму надвигающейся грозы. Крылатые кони ветра, сделав свое дело, мчались в бешеной скачке дальше, храпели и бились в ветвях деревьев. Не иначе как они пригнали сюда, на реку, с просторов взъярившейся Атлантики морских голубков и серебристых чаек, не садящихся на воду; казалось, этот ветер своим дыханьем окрасил облака, что неслись над предместьем, в мертвенно-зеленый цвет водорослей и забрызгал листву едкой пеной. Высунувшись из окна в сад, Мария ощутила на губах ее леденящий привкус. Он не придет, но если бы она даже не писала ему, разве бы мог он выйти в такую погоду? Сначала ее снедала тревога, что он не придет. Ах, куда лучше знать, что он и в самом деле не придет. Впрочем, если она никого не ждет, зачем открывать буфет в столовой и проверять, остался ли еще портвейн? Наконец хлынул ливень, пронизанный солнцем. Мария раскрыла книгу и стала читать, ничего не понимая, терпеливо начала страницу сначала, но опять без толку; села за пианино, стараясь играть не слишком громко, чтобы услышать, если хлопнет входная дверь. Боясь разочарованья, она упрямо твердила себе: «Это ветер, это, конечно, ветер», — хотя уже слышала в столовой неуверенные, мешкающие шаги. Она застыла на месте, не в силах встать, и вот он уже здесь, в гостиной, смущенный тем, что с его шапки льет вода. Он не смеет сделать ни шагу, она не смеет заговорить с ним, оглушенная всколыхнувшейся в ней страстью, которая ломает все преграды и неистово устремляется к реваншу, которая в секунду захватывает все существо человека, подчиняет себе все его физические и духовные силы, обнажает его вершины и его дно. И все же она строгим тоном произнесла самые обычные слова:
— Разве вы не получили моего письма?
Он все еще стоял в растерянности. («Она просто водит тебя за нос, — твердил ему Папильон. — Не позволяй ей морочить себе голову: держись посмелее...») Но, увидев перед собой это лицо, показавшееся ему таким разгневанным, Раймон опустил голову, как наказанный ребенок. А Мария, дрожа, словно здесь, в этой плюшевой гостиной, один на один с нею находился разъяренный молодой олень, не смела шевельнуться. Он пришел, хотя она сделала все возможное, чтобы его оттолкнуть, — значит, ее счастье не будет отравлено угрызениями совести и она может предаться ему всецело. Судьбе, которая пожелала бросить мальчика ей в жертву, она отвечала, что сумеет быть достойной этого дара. Чего она боялась? В эту минуту она была полна любви самой чистой, самой возвышенной, и доказательством тому служили слезы, набежавшие ей на глаза, когда она подумала о Франсуа: через несколько лет он стал бы таким же, как этот юноша... Она не знала, что гримаса, которую она сделала, сдерживая слезы, была истолкована Раймоном как признак раздражения, а быть может, и гнева. Неожиданно она сказала:
— В конце концов почему бы и нет? Вы хорошо сделали, что пришли. Положите-ка шапку на стул. Не беда, что она мокрая, этот генуэзский бархат видал виды... Хотите портвейну? Да? Нет? Значит, да.
Пока он пил, она сказала:
— Почему я написала вам это письмо? Я и сама не знаю... У женщин бывают причуды... впрочем, я знала, что вы все равно придете.
Раймон вытер губы тыльной стороной ладони.
— Вообще-то я чуть было не остался дома. Я подумал: она уйдет, и у меня будет дурацкий вид.
— С тех пор как у меня траур, я почти никуда не хожу... Я вам никогда не рассказывала о моем маленьком Франсуа?
Франсуа появился неслышно, словно он был живой. Быть может, матери хотелось удержать его возле себя, чтобы нарушить опасное уединение. Раймон увидел в упоминании Франсуа уловку с целью заставить его не выходить из рамок, но Мария, наоборот, хотела придать ему уверенности и, далекая от того, чтобы бояться его, полагала, что он сам ее боится. Впрочем, не она позвала на помощь своего умершего ребенка — он вошел сам, как входят дети, заслышав в гостиной материнский голос. Раз ее мальчик тут, с ней рядом, значит, все будет благопристойно. Что ты себя терзаешь, несчастная женщина? За твоим креслом стоит маленький Франсуа, он улыбается, он не краснеет от стыда.
— Прошло, кажется, чуть больше года, как он умер. Я еще хорошо помню день похорон... мама сделала сцену отцу... — Он замолчал, пытаясь вспомнить, что именно было сказано.
— Сцену? Почему? Ах да, понимаю... Даже в те дни у людей не было сострадания.
Поднявшись с кресла, Мария взяла альбом и положила его Раймону на колени.
— Я хочу показать вам его фотографии. Их видел до сих пор только ваш отец. Вот Франсуа на руках у моего мужа — ему всего месяц от роду, в этом возрасте младенец еще и на человека не похож, разве только для матери. А вот посмотрите: тут ему два года, он смеется, держа в руках мячик. Тут мы сняты в Сали, он тогда был слабенький, мне пришлось израсходовать последние сбережения, чтобы остаться на весь сезон, но там был доктор такой доброты, такого милосердия... Его фамилия была Казамайор... Это он держит ослика за повод.
Наклонившись над Раймоном, чтобы переворачивать страницы, она не видела сердитого лица подростка, который не мог шевельнуться с тяжеленным альбомом на коленях и бесился от этой вынужденной скованности.
— Вот он шести с половиной лет, за два месяца до смерти. Он выглядит поправившимся, верно? Я все время спрашиваю себя, не слишком ли много заставляла его заниматься? Ваш отец уверяет, что нет. В шесть лет он читал все, что бы ни попало ему под руку, даже то, чего он еще не мог понять. Живя рядом со взрослым человеком... — На секунду умолкнув, она продолжала:
— Это был мой товарищ, мой друг... — ибо в эту минуту и сама не понимала, чем был для нее Франсуа в действительности и чего она от него ждала. — Он уже начал задавать мне вопросы. Сколько ночей я провела без сна, думая о том, что в один прекрасный день придется ему объяснить... И единственная мысль, которая сегодня помогает мне жить, — что он ушел, не зная... что он не знал... что он никогда не узнает...
Она выпрямилась, руки ее повисли; Раймон не осмеливался поднять на нее глаза, но слышал, как содрогается ее тело. Хоть он и был растроган, он все же сомневался в ее искренности. Позже, на обратном пути, он будет повторять себе: «Она сама увлеклась этой игрой... она же просто играет покойником... И все-таки, слезы?» Его представление о ней поколебалось. Подросток создал себе канонический образ блудницы, в полном соответствии с тем, что ему внушили его учителя, хотя и считал себя не подверженным их влиянию. Мария Кросс осадила его со всех сторон, словно армия, готовая к атаке; на ее щиколотках звенели браслеты Далилы и Юдифи; не существовало, по его мнению, такого предательства, такого притворства, на которое не была бы способна эта женщина, чьего взгляда праведники страшились пуще смерти.