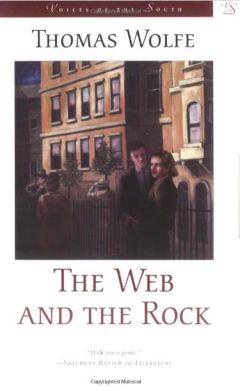— О Господи, Господи! Что станется с нами? Что на сей раз случится?
Так рассказывала она. И, как обычно, это подтвердилось роковым событием. В тот апрельский день в двухстах с лишним милях к западу, в штате Теннесси, разыгралась кровопролитная битва при Шайло, и в ту минуту, хотя весть об этом пришла несколько недель спустя, один из братьев, Джон, лежал с обращенным к небу лицом, павшим на поле сражения.
Многие истории, которые Джордж слышал от тети Мэй, были такими. И всякий раз, — когда она рассказывала их вечерами, когда угли в камине сверкали и крошились, сильные ветры безумствовали в темноте, и ужас глухого безмолвия терзал ему сердце — он слышал бесчисленные, торжествующие над смертью голоса Джойнеров, победно звучащие из столетнего мрака, из печали укромных, безотрадных холмов, и каким-то невероятным образом обонял — неизменно и постоянно! — мягкий ароматный пепел сосновых дров, едкость древесных стружек, обилие сочных, румяных яблок. К ним всякий раз почему-то примешивались отвратительные, напоминающие о смерти запахи скипидара и камфоры — это. было забытым впечатлением младенчества, мать приносила его двухлетнего в такую комнату — джойнеровскую, с горящим камином, яблоками и прочим — повидать дедушку вечером накануне кончины.
На множестве укромных, безотрадных дорог, в вечно укромных, вечно безотрадных холмах мальчик слышал елейные, протяжные голоса Джойнеров. Видел, как они поднимаются по склону лесистого холма в печальном, тусклом вечернем свете, а потом исчезают, словно призраки; и это являлось жутким пророчеством о давних войнах и сражениях, обо всех людях, преданных в тот день земле! Видел их во множестве домишек посреди глуши, в годы, еще более отдаленные и безотрадные, чем времена Верцингеторига,[4] неизменно приходящих в темноте, чтобы провести ночь в бдении у ложа усопшего, посидеть в полумраке злополучного соседского дома возле покойника, на котором пляшут отблески легкого пламени, с торжествующей страстью говорить протяжными голосами и стругать палочки до утра, сосновые дрова догорали и рассыпались в мягкий пепел, а в их голосах неумолчно звучала дарованная судьбой и необоримая способность предвещать горе.
Чего добивалась тетя Мэй этими ужасающими сплетениями своих воспоминаний? В картине того мира, которая сложилась у мальчика, Джойнеры были беззаконным, как земля, и преступным, словно природа, племенем. Все прочие щедро бросали свое семя в сырую почву тела живущей в горах женщины, порождали обильное потомство, оно жило или умирало, гибло в младенчестве или победоносно пролагало себе путь в зрелости, сражаясь со злобными врагами — бедностью, невежеством, убожеством, угрожавшими ему на каждом шагу. Они расцветали или гибли, подобно тому, как живут или гибнут особи в природе — однако торжествующие Джойнеры, не знающие никаких утрат и потерь, жили вечно, подобно реке. Другие племена выходили из земли, процветали какое-то время, а потом под непосильным бременем невзгод гибли и возвращались в ту землю, из которой вышли.
Только Джойнеры — эти падкие на ужасы, торжествующие над временем Джойнеры — жили и умирать не собирались.
И он принадлежал к этому роковому, безумному, торжествующему миру, из темницы которого побег невозможен. Принадлежал точно так же, как сотни его сородичей, и должен был либо изгнать этот мир из мозга, крови, внутренностей, бежать с демонической, ликующей радостью в мир своего отца, к новым землям и утрам, к сияющему городу — либо утонуть, как бешеный пес, умереть!
С первых же лет связной памяти Джорджа охватило всепоглощающее предчувствие прекрасной жизни. Ему постоянно чудилось, что он вот-вот отыщет ее. В детстве она окружала мальчика, надвигалась мягко, неуловимо, наполняя его каким-то невыносимым чувством неописуемой радости. Она терзала ему сердце неистовой болью восторга, лишала его опоры в жизни, но вместе с тем и заполняла душу ликующим чувством мгновенного облегчения, близящегося открытия — казалось, в воздухе внезапно обнаружится и раздвинется некая громадная стена, казалось, медленно, величаво в полном, торжественном безмолвии отворится некая огромная дверь. Мальчик не мог подобрать слова для этой жизни, но у него было множество заклинаний, молитв, мысленных образов, которые придавали ей красочность, лад и смысл, невыразимые никакими словами.
Джорджу представлялось, что стоит лишь найти определенный манер вывернуть кисть руки, повернуть запястье или сделать круговое движение рукой (подобно тому, как ребята находят способ разъединить две петли, продетые одна в другую, или специалист по замкам легко, осторожно вращая наборный диск кончиками пальцев, отыскивает нужную комбинацию цифр для открытия сейфа) — и он обнаружит утраченное измерение этого таинственного мира, немедленно войдет в открытую им дверь.
Были у него и другие чудодейственные способы заставлять этот мир открыться. Так в течение десяти с лишним лет он устраивал магический ритуал почти из всего, что делал. Не дышал, идя вдоль определенного квартала, вдыхал и выдыхал четыре раза, спускаясь по выходе из школы с холма, проходя мимо стены, касался пальцами каждого бетонного блока, в торце ее, там, где лестница поднималась вверх, касался каждого дважды, а если не выходило, то возвращался и начинал все заново.
По воскресеньям же, целые сутки с полуночи до полуночи, Джордж всегда делал не первое, что приходило на ум, а второе. Если, проснувшись в воскресное утро, он опускал ноги по левую сторону кровати, то поднимал их и вставал с правой. Если сперва надевал носок на правую ногу, то снимал его и надевал на левую. И если ему хотелось надеть один галстук, откладывал его и надевал другой.
И так весь день напролет. Но когда вновь наступала полночь, он с той же фанатичной суеверностью делал первое, что приходило на ум; а если случалось оплошать в какой-то мелочи этого ритуала, становился мрачным, беспокойным, исполненным тревожных сомнений, словно на него ополчились все демоны неудачи.
Эти ритуалы и самопринуждения разрастались, переплетались, постоянно увеличивали плотность и сложность своей паутины и временами управляли всем, что он делал, — не только тем, как он касался стен, регулировал дыхание, спускаясь со школьного холма, не дышал, идя вдоль квартала или мерил бетонные плиты тротуаров расстоянием в четыре шага, но даже и как шел по улице, какую ее сторону выбирал, где останавливался и осматривался, где непреклонно шел мимо, даже если ему очень хотелось постоять, посмотреть, на какие деревья влезал в дядином саду, в конце концов он стал влезать на определенное дерево по четыре раза в день и, чтобы вскарабкаться по стволу, совершать четыре движения.
Эта тираническая тайна числа «четыре» мешала ему, когда он играл в мяч, декламировал нараспев латинские изречения или бормотал греческие глаголы. И когда мыл шею и уши, садился за стол, рубил на растопку щепки (на каждую — четыре удара топором) или носил уголь (четыре взмаха лопатой, чтобы наполнить ведерко).
Кроме того, существовали дни сурового самоограничения, когда он смотрел только на одну черту людских лиц. В понедельник на носы, во вторник на зубы, в среду на глаза, четверг отводился рукам, пятница ступням, в субботу он с суровой задумчивостью созерцал лбы, неизменно отводя воскресенье для того, что вторым приходило на ум — глаз, если думал о ногах, зубов, если о глазах, и лбов, если первым соблазном были носы. Этот долг разглядывания он исполнял с таким непреклонным, фанатичным рвением, так бесцеремонно таращился на лбы, руки или зубы людей, что те иногда смотрели на него встревоженно, возмущенно, недоумевая, что неладного он нашел в их внешности, или негодующе трясли головами и вполголоса бранились, проходя мимо него.
Вечерами Джордж совершал четырехкратные моления — так как числа четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два почему-то были ключевыми в его арифметике чародейства. Он бубнил одну молитву четырежды по четыре раза, вскоре значение слов и смысл молитвы (мальчик сложил ее сам для шестнадцатикратного повторения) улетучивались, и он следил лишь за ритмом и числом чтений, бубнил так быстро, что слова сливались, но обязательно шестнадцать раз. А если, улегшись в постель, сомневался, что сосчитал правильно, тут же вставал, опускался на колени, какой бы холодной или сырой ни была погода, как бы он себя ни чувствовал, и не прерывался, пока не досчитывал, к своему собственному удовлетворению, до шестнадцати, затем читал молитву еще шестнадцать раз в виде епитимьи. Двигало им не чувство благочестия, не мысль о Боге, праведности или вере: то был просто суеверный обряд, вера в магическое действие определенных чисел и убеждение, что с помощью этого ритуала он добьется удачи.
Так ежевечерне он неукоснительно исполнял долг перед «их» темными силами, чтобы пользоваться «их» благосклонностью, чтобы «они» не покидали его, чтобы «они» были по-прежнему за него, а не против, чтобы «они» — бессмертные, таинственные «они», не дающие нам покоя! — поддерживали его, оберегали, даровали ему победу, сокрушали его злобных врагов и вели его к славе, любви и торжеству, к той самой огромной двери, потайным вратам в жизнь — в тот сокрытый, неописуемый мир радости, который так близко, странно, волшебно, невыносимо близко, который он может найти в любую минуту, и по которому так томится его душа.