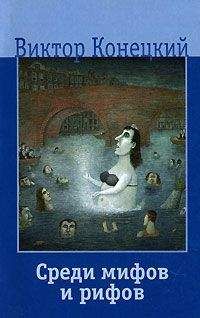У нас с Франциской наклевывался мимолетный дорожный роман. А я и хотел и боялся его. И все думал: «Как бы чего не вышло…» И действительно ничего не вышло.
«Как-то парень с девушкой поспорил», – пела мне Франциска, а под бортом старика «Челюскинца» хлюпали волны, и я для порядка поругивал рулевого и смотрел вперед, как положено вахтенному штурману, а впереди всходила Венера над Средиземным морем. «Что вдвоем они переночуют без объятий и без поцелуев», – пела Франциска старинную хорватскую песню и смеялась, придерживая от встречного ветра короткую юбочку. «Юноша тогда коня в заклад поставил, а она монисто золотое. Вот когда случилась полночь, говорит тихонько парню девка: „Повернись, перевернись разочек! Что лежишь, как истукан, на сене? Иль тебе коня, быть может, жалко? Мне не жаль мониста золотого!“»
Песенка была эпиграфом и эпилогом нашей встречи.
Спокойной ночи, Франциска! Раньше я думал, что лучшее лекарство от душевной слабости – дорога. Теперь я все больше и больше сомневаюсь в этом.
Уже перед концом вахты повстречалось судно «на стопе» с двумя красными огнями. Расходились близко. Я разобрал в бинокль подсвеченную прожектором нашу эмблему на трубе. И два вертикальных красных – «не могу управляться». Включил радиотелефон:
– Встречное судно! Я советский теплоход «Челюскинец»!
– Я вас слушаю, я танкер «Каховка»!
– Что случилось, родная винтовка? Чего стоите?
– Ремонтник в машине.
– Куда идете?
– Далеко. В Антарктиду. Керосин везем китобоям.
– Помочь ничего не надо?
– Нет, спасибо. Сами помаленьку.
– Счастливого плавания!
– Счастливого плавания!
Днем прошли Наварин – тихую, укрытую от ветра и волн бухту, пустынную, заброшенную. В 1827 году здесь сражались капитан первого ранга Лазарев, лейтенант Нахимов, мичман Корнилов, гардемарин Истомин. Они участвовали в разгроме турецко-египетского флота, защищая наших греческих братьев от ига. До чего все в этом мире течет и меняется…
Как ни странно, но в Греции у меня есть приятель-миллионер.
Мы встретились в Загребе. По каким-то причинам я здорово задержался в этом старинном университетском городе. И вечерами ходил в кафе на главной улице и регулярно, методично пил там пиво. Меня уже и буфетчицы знали. Покажешь им два пальца, они улыбнутся и сразу вытаскивают из бака со льдом две бутылки пива.
Я занимал место у окна и смотрел сквозь стеклянную стенку на толпу. Неоновые лампы высвечивали меня для обозрения со стороны улицы. А так как толпа, идя по тротуару, только и делала, что глазела на витрины магазинов, то автоматически пялилась и на витраж кафе.
И вот так проведешь часок, выпьешь пива, покуришь, и на душе тихо делается, спокойно. От мысли, что не только ты дурак, но и все дураки. И мне все вспоминался вопль Шаляпина на репетиции: «Вы, господа, не режиссеры, а турецкие лошади!» Ведь как его, бедного, допекли, если он вдруг турецких лошадей вспомнил! А я его вспоминал, потому что вокруг было много следов турецкого ига.
В этом кафе мы с Жорой и познакомились. Он из Салоник ехал в Триест и завернул в Загреб повидать своего дружка. Дружок в университете там учился, тоже грек.
Попросили ребята разрешения поставить бутылки рядом с моими на столик у окна.
– Плиз, – сказал я. – Давай, ребята, в тесноте да не в обиде.
Тут студент – смышленый парень – догадался, что я советский. Они русский язык в университете изучают. Когда Жора узнал, что я советский, то стал лупить меня по плечам и полез целоваться, хотя был еще совершенно трезвый. Оказалось, он первый раз в жизни видел живого человека из Советского Союза. А я еще не знал, что он владеет коньячным заводом в Салониках и что он миллионер. Парень как парень – чуть меня моложе. Они мне свое пиво льют, я им, как положено, свое. Они мне прикуривать дают, я им. Они мне «Честерфилд», я им «Нашу марку».
Они меня спрашивают, что я думаю о Джоне Кеннеди. Я говорю, что он был хороший парень, моряк, но больно дорого стоил – десять миллионов.
Жора расхохотался, а студент мне сказал, что я пью пиво с миллионером. Жора стоит не меньше Кеннеди.
Я немедленно заявил, что я коммунист, но выступаю за мирное сосуществование.
От восторга Жора ударил меня по спине. Я его по плечу. Потом миллионер схватил меня за руку и потащил из кафе. Оказывается, решил угостить ужином в греческом кабачке. Есть такой в Загребе.
Студент объяснил, что Жора меня не отпустит, пока я не попробую греческого мяса.
Мы залезли в шикарный «мерседес», Жора плюхнулся за руль, и через двадцать минут мы уже сидели в их кабачке.
Мясо было отменное. Без крови внутри, но когда ткнешь ножом, то из разреза вырывается розовый пар. И пахнет пряным перцем, незнакомой страной, незнакомой жизнью. И ледяное бледное вино, легкое, как пена, но крепкое. Потом мы перешли на коньяк. Но Жора все говорил, что если бы он знал, что мы встретимся, то захватил бы ящик коньяка! И как он не догадался сунуть ящик в багажник! А здешний – не коньяк, а ерунда.
Оркестр играл на полный ход. За низкими перильцами ресторана спали розы. Студент-переводчик запарился, заикаться начал.
Вдруг Жора полез в карман и вытащил паспорт.
– Посмотри! – тыкал он пальцем в паспорт. – Видишь? Гватемала… Видишь? Франция… Видишь? Берег Слоновой Кости…
Действительно, у него все странички паспорта, на которых отмечают визы, были лиловыми от штампов.
– А Советской России нет! – воскликнул я.
– Меня не пускают.
– Врешь, – сказал я. – Говори честно, ты пробовал?
– Нет, – признался он и хлопнул еще коньяку. – Чего пробовать, все равно не пустят. Я – капиталист.
– А ты очень хочешь?
– Очень! – И слезы повисли на его греческих ресницах.
– Давай, Жора, раздадим твой капитал бедным, обездоленным, – предложил я.
Он очень обрадовался. Искренне обрадовался такому простому пути в Советскую Россию. Но вовремя вспомнил, что коньячный завод, оказывается, принадлежит не одному ему, но и мужу сестры.
– Муж сестры не согласится! – сказал Жора скорбно.
Потом мы немного поспорили, кто будет платить: он или я. Моя коммунистическая щепетильность требовала не уступать в этом вопросе. Но его капиталистическая щепетильность не отставала от моей. И право было на его стороне, так как он пригласил меня, а не я его.
– В отель тебе рано, поедем еще куда-нибудь! – решил капиталист. – И кто первый налакается, тот и платит.
– О’кей! – согласился я.
В этот момент выяснилось, что за ужин уже заплатил потный от трудной работы переводчика студент Загреб-ского университета.
Мы вышли из греческого кабачка. Узкие мусульманские улочки явно стали еще уже. Интернациональные звезды подмигивали с ночных небес. И, честно говоря, отчаянно хотелось в гостиницу, в постель. Но как дезертировать с соревнований по выпивке, если противник – миллионер?
Жора елозил ключом по дверце машины, но не мог попасть в нужную щель.
– Слушай, буржуй, – сказал я Жоре. – Давай такси возьмем. Ты уже сильно под газом, а меня ждут в Совдепии.
Но капиталист как раз попал в нужную щель, сказал:
– О’кей! – и полез в машину.
Нам со студентом оставалось сделать то же.
Миллионер уверенно набрал скорость.
– Ешь ананасы, рябчиков жуй, – сказал я с удивительным провидением. – День твой последний приходит, буржуй!
И действительно, на повороте Жора ударился о поребрик, колесо перекорежилось и бескамерная шина выпустила воздух.
Жора тоже как-то потух. Мы скомканно, понуро попрощались. Утром ему надо было ехать в Триест – подписывать какой-то контракт, а пока звонить на станцию обслуживания.
Миллионера звали Миндис, а имя студента я забыл. Я бы и миллионера забыл, но он мне визитную карточку дал, а там черным по белому написано: «Георгий Миндис». И даже телефон его в Салониках: 8-23-73.
Кто хочет поговорить с настоящим миллионером, может позвонить Жоре и передать ему от меня привет.
Людмила Ивановна принесла радиограмму. Положила на карту, на остров Лесбос, сказала обычное:
– По вашей части, мальчики!
Какое-то греческое судно сообщало, что пропавшего ранее в таких-то координатах человека теперь следует считать пропавшим «из жизни». Греки просили все суда поблизости при обнаружении на море мертвого тела забрать его и сообщить. Радиограмму подписал капитан Алкивиад.
Координаты покойника, к счастью, были не на нашем курсе. Нет ничего более неприятного для зрительных и прочих нервов, нежели вид старого утопленника.
«Алкивиад»… Был такой древний философ или писатель? Мучительно долго ломал я себе голову над этой проблемой. И потом выяснил, что был. Только не философ и не писатель, а политик и полководец.
Около двух с половиной тысяч лет назад он имел замечательно большую и красивую собаку. У собаки был необыкновенно красивый хвост. И этот необыкновенный хвост необыкновенной собаки выдающийся политик, полководец и флотоводец велел отрубить.