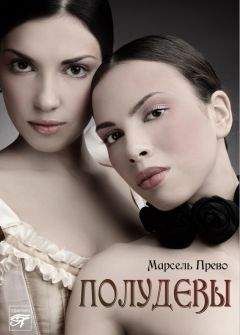Ознакомительная версия.
Сами они, эти полудевы, хохотали каким-то надтреснутым смехом; эта нечистота опьяняла их и они, с большей томностью склонялись к своим кавалерам.
Люк Летранж, со сверкающим нечистым взором подошел к Жанне Шантель. Он наблюдал за малейшим движением ее задумчивого непорочного лица и следил, какое действие производит на нее окружающее. Но на устах девушки по-прежнему сияла улыбка неведения.
«Грязный человек!» – подумал Гектор, наблюдавший за ними.
В первый раз он, скептик, снисходительный к чужим порокам его времени и общества, понял всю мерзость роли профессионального развратителя; он понял это теперь, потому что зараза грозила той, которая, таинственно, незаметно для него самого, становилась дорога ему.
Когда Жакелин окончила последний припев среди громких аплодисментов, Летранж спросил Жанну, смотря на нее ласкающим взором:
– Что же, мадемуазель, как понравился вам этот романс?
– Очень хорош, – отвечала девушка также наивно и рассеянно, – Жакелин прекрасно поет его.
– Не правда ли, что остроумнее нельзя сказать самые неприличные вещи.
Жанна сделалась совсем красной: не расслышав хорошо, чего от нее хотели, она поняла злое намерение навести ее мысли на запрещенный путь. И она ощутила при этом то, что всякая порядочная женщина всегда испытывает при разговоре о любви без нежности – страх. И вдруг ей стало стыдно своих обнаженных рук, крошечной выемки на шее, наготы, – которую пожирали взглядами мужчины – и от этой целомудренной наготы ей стало больно. Инстинктивно она стала искать защиты, прибежища, но, оглядевшись, в первый раз поняла, где она находилась, и кто окружал ее. Она стала понимать, что говорилось в этих группах девушек и мужчин, стала замечать плохо скрываемые прикосновения друг к другу. Открытие, сделанное ею, было неожиданное, поразительное; состояние ее походило на пробуждение христианской девицы, опьяненной сонным маком, в доме Сюбюрра.
Летранж, не угадавший причины такого волненья, продолжал говорить тише; он оставил гривуазные песни, вероятно, не понятые девушкой, и, сказав несколько обычных комплиментов, прибег к знакомой наизусть тираде, так много раз повторявшейся другим, которая, по его мнению, была неотразима и, облеченная в форму восхищения и дружбы, разжигала нервы каждой молодой девушки.
– Видите, – говорил он, – какие бесчеловечные отношения в парижском свете. Мы, например, встретились с вами сегодня; случилось так, что дружески беседовали; я могу на минуту вообразить, что вы принадлежите мне одному, я угадываю в вас, такой хорошенькой и умненькой, прелестное нужное создание, которым вы будете со временем, и что же? Мы расстаемся с тем, чтобы, может быть, никогда не увидаться… И другой будет обладать этим сокровищем; эти чудные глаза будут светиться для другого; он будет целовать ваш лоб, ваши губы и обладать вами всецело…
– Monsieur… – прошептала Жанна.
Она чувствовала на себе пристальный похотливый взгляд Летранжа. Она едва держалась, чтоб не упасть в обморок, а он продолжал, сам опьяненный, попавшихся в свои собственные сети.
– Конечно, я не буду этим человеком, но ничто не мешает мне мечтать о вас. Я смотрю на вас, и ваш образ запечатлевается в моем сердце, и я буду в состоянии вызвать его перед собою, когда захочу. И вся та прелесть, составляющая ваше достояние, будет принадлежать мне и для меня ничего не будет запретного в вас… в мечтах, конечно…
Он говорил эти фразы, эти дерзкие, неприличные фразы многим молодым девицам и часто видел, как они вздрагивали, слушая их, и он, вероятно, долго не кончил бы, если бы его резко не перебил Гектор Тессье, подойдя к Жанне с вопросом:
– Не угодно ли, мадемуазель, я провожу вас к мадам Шантель?
– О! да, пожалуйста, – воскликнула она, с благодарностью глядя на него.
– Но, любезный Тессье… – заметил Летранж.
Гектор пристально посмотрел на него.
– Я через минуту вернусь к вам, милый мой.
Сцена эта прошла незамеченной среди веселого шума, который поднялся при возвращении изгнанных в зал. Концерт окончился, и в зале шли приготовления к танцам, толпа хлынула к буфету. Жанна была слишком взволнована, чтобы говорить; под руку с Гектором она прошла оба зала и достигла холла. Навстречу им шел Максим.
– Не знаешь, где мама? – спросила девушка.
– Она в комнате мадам Рувр, отдыхает. Хочешь, я проведу тебя к ней?
– Мистер Тессье проводит меня.
В коридоре они остались на минуту одни.
– Благодарю вас, господин, – сказала Жанна, поднимая свои большие глаза на спутника. – Возвращаю вам свободу… От всего сердца благодарю вас!
Она протянула ему руку; осторожно, готовый выпустить, если бы Жанна отдернула ее, Гектор слегка прикоснулся губами к этой руке в серой перчатке. Она уже исчезла, а он все еще стоял взволнованный на том же месте и бранил себя: «Как я глуп! волнуюсь от того, что охранил от грязного Летранжа эту непорочную девочку… потому что эта птичка действительно целомудренна».
И, несмотря на иронию своих слов, что-то радостное, хорошее шевелилось в его душе. Потом, вспомнив недавнюю сцену с Летранжем, он посмеялся над своим салонным героизмом. «Однако это очень смешно, история из-за девочки, которой я почти не знаю… Но как же мне ненавистно это сальное животное!»
Входя в «Нормандский ресторан», он столкнулся лицом к лицу с Летранжем и подметил вызывающую насмешку на его умном и чувственном лице.
– Я к вашим услугам, милый мой.
– К моим услугам? – засмеялся Летранж… – Дуэль? из-за вашей выходки полчаса тому назад? Надеюсь, что вы шутите. Я вовсе не считаю себя обиженным и не хочу быть смешным. Мне совершенно неизвестно было, что мадемуазель Шантель вам…
– Мадемуазель де Шантель ничего не составляет для меня, – прервал Ле Тессье. – Оставимте ее в покое. Впрочем, вы правы. У меня лично нет никаких причин сердиться на вас, я, знаете, не глупее вас и знаю цену, которую можно придавать невинности моих молоденьких современниц. Но вот потому именно, что между ними очень редко встречаются вполне порядочные девушки, и надо относиться к этим немногим добросовестно. Вам, вероятно, все равно, одной меньше, одной больше? Вы уже стольких просветили!.. Я даже удивляюсь, как вас занимает это…
– Занимает! Конечно, менее чем вы думаете, – возразил Летранж, причем лицо его мгновенно омрачилось. – Все эти капризные, нервозные девчонки имеют для меня не более значения, чем эта сипара… Но что мне совершенно необходимо – это сознание, что я обладал ими. Понимаете вы меня? Сознание, что они были влюблены в меня и находились в состоянии возбужденной чувственности, произведенной моей проповедью. А потом – пусть отдаются первому встречному, выходят замуж, делаются кокотками, или монахинями – плевать я хочу на это. Краус, кажется, называет мою болезнь «неврозиком». Уменьшительная форма лишняя. Уверяю вас честью, я ужасно страдаю от этой болезни… как маньяк какой-нибудь. Одна только поняла меня хорошо и так крепко держит, что придется жениться.
Сомневаться было невозможно: этот человек говорил искренно; он победил Гектора своей оригинальной исповедью, историей новой болезни, которую тот открывал ему, и он сказал Летранжу, пожимая ему руку:
– Хорошо, я не сержусь на вас, мой милый. Только еще одно слово: скажите, пожалуйста, как с вашей отвратительной репутацией (потому что ваша репутация действительно отвратительна, не правда ли?..) как матери допускают вас в общество своих дочерей? И как девушки увлекаются вами, будучи уверены, что вы не женитесь, что вы их не любите? Ведь, они знают это?
– Матери считали бы себя оскорбленными, если бы такой признанный куртизан не обратил внимание на их дочерей, что же касается наших милых полудев, то я объясню вам примером: дайте им двадцать самых невинных романов и суньте между ними «Le Portier des Charteux», можете быть уверены, что они, прежде всего, предпочтут именно эту книгу. Так и со мной: я очень дурная книга, переплетенная в сукно и батист у Басса и Шарвэ, и все они желают прочитать меня.
Разговор их был прерван звуками вальса, на которые, устремились все бывшие в буфете молодые люди, расталкивая стоявших на дороге. Летранж и Тессье также вошли в приготовленный для танцев холл. Матери уже размещались по стенам; мадам Рувр и мадам Шантель уселись в глубине огромного зала, где было устроено нечто вроде палатки из материи и развесистых растений. Здесь не могли мешать им танцующие, и хозяйка дома чувствовала себя как бы в своей гостиной в приемный день, имея вместе с тем возможность любоваться балом.
Летранж обхватил талию Жакелин, увлек ее в вихре вальса; кружась с нею, он так низко склонялся головой к её шейке, что, при прикосновении к ней усами, трудно было сказать, шептал ли он ей что, или скользил поцелуем. Девушка отвечала смехом, похожим на воркованье горлицы. Вальбелль изменил Доре Кальвелль и кружился с Мартой Реверсье, которая была бледна как воск; грациозная и легкая, точно лилия, она, казалось, только одним длинным белым платьем касалась паркета. Маленькая мадам Дюклерк почти слилась с Анри Эспьеном в одно целое, и в ее позе было очень мало психологического. Гектор, стоя у дверей, в стороне, где разместились не танцующие, успел уже забыть свой недавний порыв благородного негодования, и издали любовался этим вихрем порхающих парочек, почти не обращая внимания на дам и с любопытством засматриваясь на «целомудренные» декольте и платья нежных цветов. Его забавляла и наивность и частью легкомыслие этих молоденьких светских подруг его, наивный и острый ум и пикантная свежесть которых забавляли его и представляли собой приправу к его страсти вращаться в свете. Он думал про себя: «Вот они и счастливы. Целые два часа музыка раздражала их нервы, страстная песня Учелли, сантиментальные романсы Этьеннет, гривуазные шансонетки, имитированные Жакелин, а особенно разговоры вполголоса и вызывающее взгляды мужчин – все это вместе возбуждало их; глазки их подернуты влагой, в горле сухо, руки лихорадочно сжимаются и вальс как нельзя более кстати явился на выручку им… Веселитесь же, крошки мои…»
Ознакомительная версия.