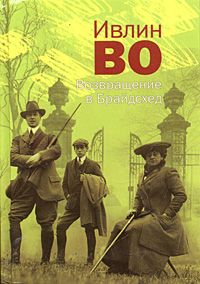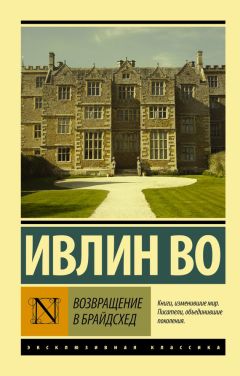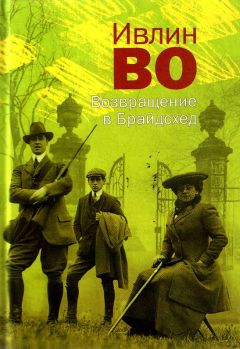Брайдсхед и Корделия уехали; в парке убрали палатки и флаги; вытоптанная трава снова постепенно зазеленела; месяц, начавшийся в блаженной лени, теперь стремительно приближался к концу. Себастьян уже ходил без палочки и забыл о своем увечье.
– Я считаю, что вы должны поехать со мною в Венецию, – сказал он.
– Денег нет.
– Это я уже обдумал. Там мы будем жить на папин счет. Дорогу мне оплачивают адвокаты – спальный вагон первого класса. На эти деньги мы оба можем доехать третьим.
И мы поехали; сначала медленным дешевым пароходом до Дюнкерка, сидя всю ночь под безоблачным небом на палубе и следя, как серый рассвет занимается над песчаными дюнами;
затем, трясясь на деревянных скамьях, в Париж, где поспешили к «Лотти», приняли ванну и побрились, пообедали у «Фойо», где было жарко и наполовину пусто, сонно побродили по магазинам и еще долго должны были сидеть в каком-то кафе, пока не настанет время отправления нашего поезда; потом пыльным теплым вечером шли на Лионский вокзал к отходу почтового на юг; и опять деревянные скамьи, вагон, в котором полно бедняков, едущих в гости к родственникам и снарядившихся в дорогу так, как принято у бедняков в Северной Европе: с бесчисленными узелками и с выражением покорности начальству на лицах, и матросов, возвращающихся из отпуска. Мы спали урывками, под толчки и остановки, среди ночи сделали пересадку, потом снова спали и проснулись в пустом вагоне, а в окнах мелькали сосновые леса, и вдали маячили горные вершины. Новые мундиры на границе, кофе и хлеб в станционном буфете, вокруг нас люди, по-южному живые и грациозные, и опять путь по широкой равнине, а в окнах вместо хвойных лесов – виноградники и оливковые рощи, пересадка в Милане, чесночная колбаса, хлеб и бутылка «Орвието», купленные с лотка (мы потратили почти все наши деньги в Париже); солнце в зените и земля, затопленная зноем, вагон, наполненный крестьянами, приливающими и отливающими на каждой станции, и тошнотворный запах чеснока в жарком вагоне. Наконец вечером мы приехали в Венецию.
На вокзале нас ожидала сумрачная фигура.
– Папин слуга Плендер.
– Я встречал экспресс, – сказал Плендер. – Его светлость думал, что вы по ошибке сообщили не тот номер поезда. Этот поезд значится только от Милана.
– Мы приехали третьим классом. Плендер вежливо поцокал языком.
– Вас дожидается гондола. Я с багажом приеду сразу же вслед на vaporetto[12]. Его светлость отправился в «Лидо». Он не был уверен, что вернется к вашему приезду, то есть когда мы еще предполагали, что вы приедете экспрессом. Теперь он уже должен быть дома.
Он подвел нас к дожидавшейся лодке. Гондольеры были в бело-зеленых ливреях с серебряными бляхами на груди. Они улыбнулись и поклонились.
– Palazzo. Pronto[13].
– Si, signore Plender[14]. И мы отплыли.
– Вы здесь бывали?
– Никогда.
– Я один раз уже был – приезжал морем. Но надо приезжать только так.
– Ессо ci siamo, signori[15].
Дворец был не столь грандиозен, как можно было ожидать, с узким ложноантичным фасадом, замшелыми ступенями и темной аркой из рустованного камня. Один из гондольеров спрыгнул на берег, привязал чалку к столбу и позвонил у дверей. Двери распахнулись; слуга в довольно безвкусной полосатой летней ливрее повел нас вверх по лестнице из полумрака на свет; стены piano nobile[16] в ярких солнечных лучах полыхали фресками школы Тинторетто.
Наши комнаты находились на втором этаже, куда вела крутая мраморная лестница; окна были загорожены ставнями, и сквозь щели пробивался горячий солнечный свет; дворецкий распахнул ставни, и открылся вид на Большой канал. Кровати были завешены москитными сетками.
– Mostica[17] сейчас нет.
В обеих комнатах стояло по маленькому пузатому комоду с тусклым зеркалом в золоченой раме, и больше никакой мебели не было. Полы – голые мраморные плиты.
– Мрачновато, да? – сказал Себастьян.
– Мрачновато? Да вы только поглядите! Я подвел его к окну и к несравненному виду, открывавшемуся перед нами и вокруг нас.
– Нет, о мраке тут говорить не приходится… Ужасный взрыв заставил нас броситься в соседнее помещение. Там оказалась ванная, оборудованная, по-видимому, в бывшем камине. В ней не было потолка, а стены проходили насквозь через третий этаж и открывались прямо в небо. Облако пара почти скрыло дворецкого у старинной колонки. Сильно пахло газом, а из крана бежала тонкая струйка холодной воды.
– Плохи дела.
– Si, si, subito, signori![18]
Дворецкий выбежал на лестницу и стал что-то громко кричать вниз, ему отозвался женский голос, гораздо более пронзительный. Мы с Себастьяном вернулись к созерцанию вида из наших окон. Между тем переговоры подошли к концу, появились женщина и мальчик, они улыбнулись нам, бросили свирепый взгляд на дворецкого и поставили на комод к Себастьяну серебряный таз и такой же кувшин с крутым кипятком. Дворецкий тем временем распаковывал и складывал наши вещи и, перейдя на итальянский, толковал нам о непризнанных достоинствах старинной колонки. Вдруг он насторожился, склонил голову набок, промолвил: «Il marchese» – и бросился вниз.
– Надо принять благопристойный вид для встречи с папой, – сказал Себастьян. – Смокинги не потребуются. Насколько я понимаю, он сейчас один.
Мне не терпелось поскорее увидеть лорда Марчмейна. Когда же я его наконец увидел, меня прежде всего поразила его обыкновенность, впрочем, как я убедился позже, нарочитая. Он, видимо, сознавал, что имеет байронический ореол, считал это дурным тоном и старался по возможности его скрыть. Он стоял на балконе, и, когда повернулся к нам, лицо его скрыла густая тень. Я видел только высокую, статную фигуру.
– Голубчик папа, – сказал Себастьян, – как ты молодо выглядишь!
Он поцеловал лорда Марчмейна в щеку, а я, который не целовал своего отца с тех пор, как вышел из детской, смущенно стоял сзади.
– А это Чарльз. Ведь верно, папа очень красив, Чарльз? Лорд Марчмейн пожал мне руку.
– Тот, кто смотрел для вас расписание поездов, сделал ошибку, – сказал он, и голос его был голосом Себастьяна. – Такого поезда нет.
– Но мы на нем приехали.
– Быть не может. В это время есть только почтовый из Милана. А я был в «Лидо». Я теперь по вечерам играю там в теннис с инструктором. Единственное время, когда не слишком жарко. Надеюсь, молодые люди, вам будет удобно наверху. Этот дом, кажется, выстроен в расчете на удобство только для одного человека, и человек этот – я. У меня комната размерами с этот зал и очень приличная гардеробная. Вторую просторную комнату взяла себе Кара.
Я был очарован простотой и свободой, с какими он говорит о своей любовнице; позднее я заподозрил, что это делалось нарочно, чтобы произвести на меня впечатление.
– Как она поживает?
– Кара? Прекрасно, надеюсь. Завтра утром она будет с нами. Поехала погостить к знакомым американцам, которые снимают виллу на Бренте. Где мы сегодня обедаем? Можно поехать в «Луна-отель», но туда теперь с каждым днем набивается все больше англичан. Вам будет очень скучно, если мы останемся дома? Завтра Кара непременно захочет повезти вас куда-нибудь, а здешний повар, право же, превосходен.
Он отошел от балконной двери и теперь стоял в ярком вечернем свете, четко рисуясь на фоне алых штофных стен. У него было благородное, ухоженное лицо, именно такое, подумал я, каким он предназначил ему быть: слегка усталое, слегка сардоническое, слегка чувственное. Видно было, что человек в расцвете жизни. Мне было странно представить себе, что он всего лишь несколькими годами моложе моего отца.
Мы сели обедать за мраморный стол между окнами, в этом доме все было либо мраморное, либо бархатное, либо тусклое, золоченое.
Лорд Марчмейн спросил:
– А как вы намерены провести здесь время? За купанием или осматриванием достопримечательностей?
– Кое-какие достопримечательности, надеюсь, мы осмотрим, – ответил я.
– Каре это будет по душе. Она, как вам, несомненно, уже объяснил Себастьян, хозяйка этого дома. Совместить и то и другое вам, поверьте, не удастся. Стоит один раз попасть в «Лидо», и кончено – садитесь за трик-трак, застреваете в баре, тупеете от зноя. Советую держаться церквей.
– Чарльз большой любитель живописи.
– Да? – Я услышал в его голосе отзвук глубочайшей скуки, которую так хорошо знал по своему отцу. – И у вас есть кто-то из венецианцев специально на примете?
– Беллини, – ответил я более или менее наобум.
– Да? Который же?
– Боюсь, я и не подозревал, что их двое.
– Трое, если уж быть точным. Вы убедитесь, что в великие эпохи живопись была делом преимущественно семейным. Ну, а как там Англия?