Ознакомительная версия.
Грудью я прижимаюсь к стене укрытия, прячу за бруствером голову и жду. Солнце палит мне прямо в лицо, и по-прежнему до изнеможения хочется пить. Люся перезаряжает автомат и садится на дно укрытия.
«Главное, что-то решить, — думаю я, — на что-то отважиться, все остальное легче. Самое худшее — неопределенность». И постепенно мне становится легче, исчезает та беспокойная неуверенность в себе, которая донимала с утра.
— Не так просто нас взять! Пусть попробуют, — оглядываясь, говорю я, чтобы подбодрить Люсю, которая вопросительно и с затаенной надеждой смотрит на меня. Девушка молчит и вслушивается в звуки наверху. Лукьянов часто стонет, потом поднимает посиневшие веки в спрашивает, с трудом удерживая в руке гранату:
— Ну, где же они? Где? Почему не идут? Успеть бы…
Какое-то время он лежит неподвижно, с закрытыми глазами, затем снова открывает их и зовет Люсю.
— Жжет сильно!.. Душит… Видно, все… Воды бы, сестра!
Люся наклоняется, поднимает с земли его пожелтевшую, с худыми тонкими пальцами кисть.
— Потерпите. Нет воды… И говорить не надо. Нельзя вам.
— Сестра, — зовет он снова. — Чего вы тут? Кто вас послал?
— Сама.
— Зачем, а?
— Так. Жалко вас стало, — просто отвечает Люся.
— Жалко! — шепчет Лукьянов и закрывает глаза. — Это хорошо. Только… Не стоит. Не надо жалеть…
«Ну где же они? Почему не идут?» — начинает и меня жечь нетерпение. От неподвижности ноет тело, гудит в голове и клонит ко сну. Я боюсь уснуть. Стрельба утихла, немцы прячутся, но что будет дальше? Кривенок не отзывается, только шаркает чем-то в земле.
— Люся, вы берегите себя, — сдерживая стон, тихо говорит Лукьянов. — Берегите. Вы красивая. Это много значит!.. А мне уже все. Конец! Как бессмысленно! Эх!.. Хоть бы один день! Один день. Я доказал бы… Эх!
Кажется, он умирает. Глаза его закрываются, щеки ввалились, волосы торчат щеткой, тонкие ноздри едва шевелятся. Около него лежат Желтых, Панасюк, Попов.
Что-то сдавливает горло. Мне хочется выругаться, но рядом Люся, и я до боли в ушах стискиваю зубы…
Как адски долго тянется день!
Дожить бы до ночи! Ночью мы, возможно, выбрались бы из этой ямы и пробились к своим. Но очень медленно опускается солнце. Тень в укрытии, однако, постепенно ширится и закрывает лица убитых и съежившийся под стеной комочек — Люсю. Воздух по-прежнему насыщен муторным смрадом жженой резины, краски, пороха; от земли пышет жаром и пылью; нет-нет да потянет тошнотворным запахом крови. Возле станины, там, где лежал Попов, кружатся, жужжат мухи.
«Только бы хватило терпения, — думаю я теперь единственную свою думу. — Только бы выдержать!..» Что-то подсказывает мне, что больше всего надо стараться сохранить ясный рассудок, не сойти с ума, не броситься удирать и не подпустить врага близко. Если не выдержим тут, то наверху нас перебьют за несколько секунд. Надо Сидеть, хотя и тяжело и страшно. «Надо держаться за землю-матушку», — говорил Желтых. В ней — наша сила и наша надежда.
— Кривенок! — зову я пулеметчика. — Ты наблюдаешь?
Я присаживаюсь в тени окопа рядом с Люсей. Помахивая кукурузной веткой, она отгоняет мух от вспотевшего лица Лукьянова. В ее глазах тихое, терпеливое ожидание. Видно, она также пережила самое трудное сегодня, и теперь на ее лице светится что-то осознанно-спокойное и очень дорогое мне. Лукьянов же не шевелится, не стонет, и Люся приподнимает его неподвижную руку. Граната выкатывается на землю.
— Жив?
— Жив еще, — вздыхает она. — Но уже скоро…
Я впервые так близок к Люсе, и впервые нас обоих объединяет общая забота. Рядом лежат убитые, и умирает наш четвертый товарищ, но я почему-то уже не чувствую особой остроты этой потери, — видно, нервы мои притупились. Но вот близкое Люсино соседство какой-то неизведанной волнующей теплотой охватывает меня. Из самых потайных глубин моей души поднимается волна ласкового чувства к ней. Что-то теплое, даже не дружеское, а братское вливается в мое сердце, я очень хочу прикрыть ее, защитить, не дать в обиду. Теперь мне не так уж важны их отношения с Лешкой, с капитаном Мелешкиным. Теперь она со мной, только моя, и разлучить нас может разве что смерть.
«Милая, хорошая девчушка! — хочется сказать мне. — Я люблю тебя! Люблю! Навсегда! Навеки… Пусть мы погибнем, пусть пропаду я, все равно я буду любить тебя до последнего мгновения».
И мне почему-то становятся слышны эти мои слова, Может, я говорю их вслух? Я гляжу на Люсю: нет, она сидит в задумчивости…
А что, если сказать?
Так вот, как думаю и чувствую — скажу, пусть знает. Что из того, что наша жизнь еле теплится, что лежат четверо наших товарищей? Наша ли в том вина, что судьба уготовила нам такую молодость? Что будет после того, как признаюсь в этом, я не могу представить себе. Но, видно, та необыкновенная значительность, которая наступит после моих слов, и сдерживает мою решимость.
— Люся! Ты побереги себя. Прошу, — говорю я и с затаенной надеждой на то, что она уступит мне, согласится, гляжу на нее.
Люся словно пробуждается, вздыхает и печально улыбается одними уголками губ.
— Как? Может, бежать? Бросить раненого?
— Зачем? Бежать некуда… Но все же, — возражаю я, хотя и чувствую, что сказать нечего.
— Все же, все же… Думаешь, я зачем примчалась к вам? Оттого, что подлость доняла, вот! Задорожный ведь в санроту прибежал, за бумажкой с красной полоской — в тыл, значит. Я говорю: а как с ребятами? А он: «Что ты о ребятах — им уже крышка. К тому же я ранен», — говорит. А рана у него
— царапина одна. Ну, каково? — спрашивает Люся.
Я словно немею. Забыв о немцах, осоловело гляжу в строгие, но по-прежнему очень ясные Люсины глаза.
— Этого от Лешки я не ждала. От кого хочешь, но не от него, — нервно продолжает Люся. — Выбежала, смотрю: вы тут бьетесь. Бросила все, полетела. И разрешения не спросила… Только вот… опоздала.
Меня будто ошпаривают кипятком, сами собой сжимаются кулаки.
«Вот гад! Отблагодарил нас — и меня, и Попова, и Кривенка, спрятался за бумажку с красной полоской. И горя ему мало, что мы тут погибаем».
— Сволочь! — вырывается у меня. — Надо было комбату доложить.
— Что докладывать! — говорит Люся. — Все же он ранен, формально прав. Правда, с такой раной никто его в тыл не пошлет, но…
Да, формально он прав — у него царапина на руке, а тут, пока мы его ждали, погиб Попов, умирает Лукьянов, Люся попала в западню, из которой не видно выхода. Совсем новое, никогда прежде не испытанное чувство гнева охватывает меня. За все долгое время этой страшной войны я не думал об этом, не мог представить себе ничего подобного. С восхищением и завистью я глядел на каждого фронтовика, но вот бывают, видно, и такие. И пусть бы сделал это кто-нибудь из пугливых, хотя бы тот самый Лукьянов, но Задорожный? Почему он поступил так? Гад, за это его надо судить. Хотя как судить, он ведь ранен! Вот и возьми его голыми руками.
— Пить!.. Пить!.. — снова начинает стонать и дергаться Лукьянов. Губы его высохли, лицо заострилось, и пожелтевший нос, словно клюв, торчит в предвечернее небо. Люся сидит рядом и медленно, терпеливо гладит его по рукаву.
При напоминании о воде я глотаю слюну, но и слюны уже нет. Язык сухой, в горле тоже все высохло, в глазах какой-то туман. Надо что-то делать, двигаться, иначе одолеет сон, и мы погибнем. Вдруг из окопа брызжет короткая очередь.
— Что такое? — будто очнувшись, спрашиваю я, но Кривенок молчит. Я прислушиваюсь и снова повторяю вопрос.
— Вон ползет, — нехотя отвечает Кривенок.
Я осторожно выглядываю — действительно, возле танка что-то ворочается, кажется, ползет человек.
— Стой, погоди, — говорю я. — Может, наш кто?
Мне жалко и одного патрона, жалко тишины, которая — знаю я — будет недолгой. Все же она приближает нас к ночи и оставляет надежду на спасение. Отсюда плохо виден этот человек, но, кажется, он ползет, и Кривенок опять лязгает затвором.
Рядом вскакивает Люся. Она также всматривается через бруствер: наверно, это все-таки немец. Мы видим, как шевелится трава и из нее время от времени показывается темная спина. Кривенок почему-то медлит, не стреляет, и тогда издали доносится слабый страдальческий стон:
— Пауль! Пауль!
Раненый немец, это точно. Он и ползет так — судорожно, медленно, пластом прижимаясь к земле. Люся надламывает свои тонкие брови и просит Кривенка:
— Не стреляй! Погоди! Может, у него вода…
Я то прячусь за бруствер, то снова выглядываю. Опять рядом брызжет в лицо землей, и из подсолнухов доносится выстрел. «Следят, сволочи!» Немец тем временем то ползет, то замирает, слышится его натужное «Пауль».
«Странно, какого Пауля найдет он в нашем окопе», — злорадно думаю я. Один он нам тут не страшен, но на всякий случай я беру автомат и отвожу рукоятку.
С бруствера скатывается и разбивается сухой ком земли, потом еще два, и затем появляются две страшные, обожженные до красноты руки. Они высовываются из обгоревших рукавов, вгребаются в комья бруствера, и тотчас показывается голова с короткими опаленными волосами. Немец поднимает ее, и мы с Люсей одновременно ужасаемся. Лицо его, как и руки, сплошь в красно-белых ожогах; возле уха кровянистая масса, веки на глазах слиплись, запали и не раскрываются.
Ознакомительная версия.
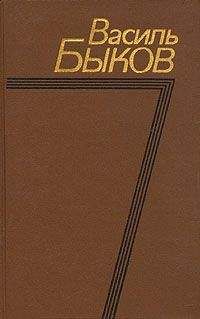

![Алексей Быков - Тень [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)
