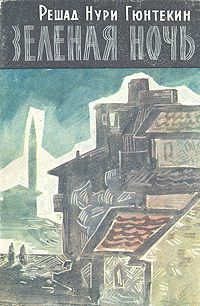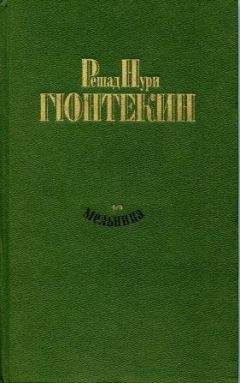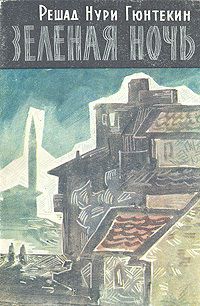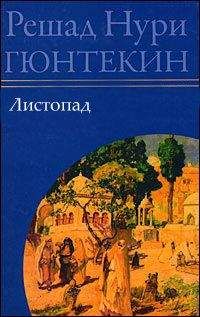— и девочка пообещала ее не выдавать.
Правда, кормилица все же опасалась, что когда-нибудь девочка не выдержит и поднимет шум. Впрочем, она и тут придумала выход. Как только она увидит, что девочка очень переживает, или ведет себя неподобающим образом, или становится чересчур веселой, она тут же скажет: «Вот безумная, Исмаил-то умер… Я уже давно тебя раскусила, вот как ты любишь Исмаила на самом деле».
Однако меры предосторожности оказались излишними. Гюльсум хранила невиданную верность своей клятве, и даже когда вокруг нее дети корчились от смеха, она тихо-тихо сидела в сторонке, возле кормилицы, закрыв лицо коленями.
Иногда соседи спрашивали старуху:
— С вашим ребенком что-то случилось, госпожа?
— Наверное, у нее немного болит голова! — отвечала она и, достав невесть откуда взявшийся в ее кармане розовый уксус, протирала Гюльсум виски, а потом, коснувшись платочком ее лба, говорила: «Вставай, дитя мое… Смотри, вот интересуются, не заболела ли ты? Посмотри вокруг, развейся. Разве ты не давала мне слово!»
Гюльсум в тот момент мечтала только об одном: чтобы ее оставили в покое. Однако она понимала, что нужно непременно поднять голову, дабы не обидеть кормилицу с Карамусала. Но взгляд ее при этом был как у затравленного зверька.
Может быть, от страха, что их с кормилицей секрет дойдет до ушей ханым-эфенди, Гюльсум скрывала свои переживания ото всех. Но по какой-то причине она не сдержалась и рассказала все старому няньке. Однако с него она взяла клятву, что он будет хранить ее тайну. Сначала нянька слушал эту историю с серьезным видом. Но когда Гюльсум сказала, что ханым-эфенди пришло тайное письмо, это его немного покоробило. А потом он и вовсе засомневался, что эту новость поведали Гюльсум по секрету. В один момент он даже мысленно сказал себе: «Нет ли здесь какого-нибудь подвоха?» И если бы в тот момент он пораскинул мозгами, он бы смог докопаться до истины. Но эта мысль промелькнула очень быстро, будто зажженная и тотчас потухшая спичка, а дальше, конечно же, опять наступила темнота…
Разумеется, Таир-ага догадывался, что здесь не обошлось без кормилицы. Однако он не любил вмешиваться в дела, которые его лично не касались.
После долгих раздумий старик внимательно посмотрел на Гюльсум, покачал головой.
— Что тут скажешь?! Мертвые пусть обретут покой, а живым надо жить дальше. Даст Аллах, и нам перепадет часть его милости на том свете, — сказал он и посчитал выполненным свой моральный и человеческий долг.
* * *
С тех пор никто больше не следил за Гюльсум, в этом уже не было необходимости. Девочка обрела свободу, но стала словно птица, у которой подрезаны крылья. Теперь ей было некуда бежать, даже если ее и начнут прогонять палкой.
Но она сильно изменилась: осунулась, выглядела очень бледной и стала очень рассеянной. Она говорила: «Я занята», а сама перемешивала в это время траву с водой; случайно опрокидывала стулья и табакерки, перебила кучу горшков и стаканов. Когда домочадцы хотели отругать ее, хозяйка дома всегда вставала на ее сторону: «Не надо… вы совершите грех… Она ведь сделала это не нарочно…»
Надидэ-ханым даже радовалась тому, что вытворяла Гюльсум в эти дни. И все же она сожалела, что причинила ребенку такую боль. А когда девочка била посуду, она считала, что они квиты, и ее совесть немного успокаивалась.
Тем не менее Надидэ-ханым иногда казалось, что Гюльсум специально отбеливает лицо, чтобы ее расстроить.
Временами она взволнованно говорила:
— Посмотри-ка, кормилица. Что-то не нравится мне цвет лица этого ребенка. Разве мы сделали что-то плохое?
Эта проблема угнетала ее более всего. Она никак не могла решить: правильно они поступили или нет. Надидэ-ханым стала более внушаемой.
Вообще, ей всегда важно было знать, как относятся окружающие к ее поступкам. А здесь кроме кормилицы никто больше об этом не знал, поэтому она терзалась вдвойне.
Растерянность пожилой женщины всем бросалась в глаза. Она чувствовала себя, словно судья, который не может найти подходящую статью закона, чтобы осудить виновного за беспрецедентное преступление.
Гюльсум будто почувствовала странное поведение ханым-эфенди. Однажды она спросила кормилицу:
— Ханым-эфенди теперь так ласкова со мной. Что с ней?
Кормилица, сглотнув, ответила:
— Ее сердце тоже плачет по Исмаилу.
Маленькая девочка тут же поверила в это и начала глубоко жалеть ханым-эфенди.
Временами, когда она видела, что хозяйка дома выглядит слишком задумчивой, у нее внутри все сжималось, она подходила к ней под каким-нибудь предлогом и со страхом смотрела ей в глаза.
Несколько раз Гюльсум очень хотелось сказать:
«Не расстраивайся, ханым-эфенди… Что поделаешь, смерть не выбирает… Если он умер, то пусть Аллах даст тебе многие лета». — Но тут же спохватывалась, вспомнив о клятве, которую она дала кормилице.
В некоторой степени кормилица с Карамусала заслужила подобную верность. В эти непростые для девочки дни она по-матерински заботилась о Гюльсум.
В течение двух недель у Гюльсум ночью случались припадки. Она в жару металась по постели и говорила бессмыслицу. Во время болезни кормилица взяла ее к себе в комнату. Когда девочка начинала бредить, она ласково гладила ее по голове и смазывала ее лоб розовым уксусом.
Когда Исмаил был «жив», Гюльсум говорила о нем только с нянькой, но теперь, узнав о смерти брата, она бросилась к Невнихаль-калфе. Старая черкешенка являлась одним из старожилов этого дома. Она была на пятнадцать с лишним лет старше покойного Шекип-паши. Пожилая женщина вырастила и даже женила его.
Но Невнихаль-калфа и хозяйка дома никак не могли договориться между собой. Когда Надидэ-ханым сорок лет назад пришла в этот дом, черкешенка стала вести себя как свекровь, и поэтому отношения между ними были весьма натянутыми. Случалось, женщины ругались так, что казалось, для кого-нибудь из них эта ссора станет последней в их жизни.
Иногда Надидэ-ханым ревновала Невнихаль-калфу к паше и обвиняла ее в том, что та хочет выжить ее из дома.
Но проблема была не только в этом. Во время продолжительной болезни Надидэ-ханым черкешенка подумала, что место жены уже практически свободно, и начала обхаживать пашу и даже, по слухам, хотела выйти замуж за него или стать его одалиской. Надидэ-ханым, видя, как действует на эту женщину ее болезнь, говорила: «Когда эта мегера старается сделать мне еще больнее, она причитает: “Ах, мой любимый паша, твое энтари испачкалось, брюки помялись… вах, вах, ты стал таким жалким!” Стоит мне это услышать, то я просто сгораю