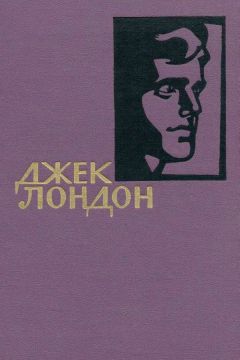— Вы находите? — равнодушно сказал Мартин, ибо для него существовала на свете только одна красивая женщина, и она шла рядом с ним, опираясь на его руку.
— Если б эту девушку одеть как следует и научить ее держаться, уверяю вас, она покорила бы всех мужчин и вас в том числе, мистер Иден.
— Ей прежде всего нужно было бы научиться говорить, — отвечал он, — а то большинство мужчин и не поняли бы ее. Я уверен, что вы не поймете и половины из того, что она вам скажет, если она будет говорить так, как привыкла.
— Глупости. Вы так же упрямы, как Артур, когда хотите доказать что-нибудь.
— А вы забыли, как я говорил, когда мы встретились первый раз? Сейчас я говорю совсем иначе. Я тогда говорил так же, как эта девушка. Но за это время я выучился вашему языку и могу утверждать попятными для вас словами, что вы ни за что не поймете ее языка. А знаете, почему она так держится? Я ведь теперь все время думаю о таких вещах, которые раньше мне и в голову не приходили, — и я многое начинаю понимать.
— Почему же она так держится?
— Она уже несколько лет работает на фабрике. Молодое тело податливо, как воск, тяжелый труд формирует его; оно невольно привыкает к положению, удобному для данной работы. Я с одного взгляда могу определить, чем занимается рабочий, встреченный мною на улице. Посмотрите на меня. Почему я так раскачиваюсь при ходьбе? Да потому, что я почти всю жизнь провел на море. Если бы все эти годы я был не матросом, а мясником, я бы не ходил вперевалку, но у меня были бы кривые ноги. Вот и с этой девушкой так. Вы заметили, какой у нее, если можно так выразиться, жесткий взгляд? Ведь она никогда не жила под чьим-нибудь крылышком. Она все время сама должна думать о себе, а когда девушке приходится самой о себе думать и заботиться, у нее не может быть такого нежного, кроткого взгляда, как… как у вас, например.
— Вы, пожалуй, правы, — тихо сказала Руфь. — Как это ужасно! Она такая красивая…
Мартин, взглянув на все, увидел, что в ее глазах светится сострадание. И тут же он подумал о том, как он любит ее и какое необычайное счастье выпало ему — итти с нею вдвоем под руку, направляясь на лекцию.
«Кто ты такой, Мартин Иден? — спрашивал он себя в этот вечер, вернувшись домой и глядя на себя в зеркало. Он глядел долго и с любопытством. — Кто ты и что ты? Где твое место? Твое место подле такой девушки, как Лиззи Конолли. Твое место среди толпы трудящихся людей, — там, где все вульгарно, низко и грубо. Твое место среди рабочего скота, в грязи и в навозе. Перед тобой свалка овощей. Гниет картофель. Нюхай же эту вонь, чорт тебя побери, нюхай хорошенько! А ты смеешь совать нос в книги, слушать красивую музыку, любоваться прекрасными картинами, заботиться о своем языке, думать о том, о чем не думает никто из твоих товарищей, отмахиваться от Лиззи Конолли и любить девушку, которая на миллионы миль выше тебя и живет среди звезд! Кто ты такой? Что ты такое, чорт тебя возьми! Доведет ли все это тебя до добра?»
Он погрозил себе в зеркале кулаком и сел на край кровати, глядя перед собой широко открытыми, невидящими глазами. Потом немного спустя достал свою тетрадку, учебник алгебры и углубился в квадратные уравнения. А часы летели, звезды меркли, и за окном серели уже предрассветные сумерки.
Кружок словоохотливых социалистов и философов из рабочего класса, который собирался в Сити-Холл-парке в жаркие дни, случайно натолкнул Мартина на одно великое открытие. Раза два в месяц, проезжая через парк по пути в библиотеку, Мартин слезал с велосипеда, прислушивался к спорам, и всякий раз ему стоило труда оторваться от них. Общий тон этих дискуссий был иной, чем за столом мистера Морза. Спорщики не были важны и преисполнены достоинства. Они давали волю своему темпераменту и осыпали друг друга обидными прозвищами, ругательствами и ядовитыми намеками. Раза два дело доходило до потасовки, И все же, не отдавая себе ясного отчета — почему, Мартин чувствовал какую-то живую основу во всех этих словопрениях; они сильнее действовали на него, чем спокойная уравновешенность и догматичность мистера Морза. Эти люди, которые немилосердно коверкали английский язык, жестикулировали, как помешанные, и с первобытной яростью нападали на своих идейных противников, — эти люди казались ему куда жизненнее мистера Морза и его друга мистера Бэтлера.
На сборищах в парке Мартин несколько раз слышал имя Герберта Спенсера, но вот однажды появился там его ученик и последователь, жалкий бродяга в рваной куртке, застегнутой наглухо, чтобы скрыть отсутствие рубашки. Началось генеральное сражение в дыму бесконечных папирос, среди потоков сплевываемой табачной жвачки, причем бродяга ловко парировал все удары, даже когда один из рабочих-социалистов крикнул насмешливо: «Нет бога, кроме Непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его!» Мартин не мог уяснить себе, о чем идет спор, но он заинтересовался Гербертом Спенсером и, приехав в библиотеку, спросил «Основные начала», так как бродяга часто в разгаре спора упоминал это сочинение.
И это было начало великого открытия. Мартин уже однажды пытался читать Спенсера, но так как он выбрал «Основы психологии», то и потерпел фиаско, так же как и с госпожой Блаватской. Он ничего не мог понять в этой книге и вернул ее непрочитанной. Но в этот вечер, после алгебры и физики и долгой борьбы с сонетом, он лег в постель и раскрыл «Основные начала», Утро застало его еще за чтением. Заснуть он не мог. В этот день он даже не писал. Он лежал и читал до тех пор, пока у него не заболели бока; тогда он слез с постели, улегся на голый пол и продолжал читать, держа книгу над головой или облокотясь на руку. Эту ночь он спал и утром уселся писать, но соблазн был так велик, что вскоре он снова принялся за чтение, позабыв все на свете, даже то, что в этот вечер его ожидала Руфь. Он опомнился только тогда, когда Бернард Хиггинботам распахнул дверь и опросил, не думает ли он, что они содержат ресторан.
Мартин Иден всегда отличался любознательностью. Он хотел все знать и отчасти из-за этого увлекся профессией всесветного бродяги-моряка. Но теперь, читая Спенсера, он понял, что не знает ничего, что никогда ничего и не узнал бы, сколько бы ни странствовал по морям. Он лишь скользил по поверхности вещей, наблюдая разрозненные явления, накопляя отдельные факты, делая иногда небольшие частные обобщения, — все это без всякой попытки установить связь, привести в систему мир, который представлялся ему прихотливым сцеплением случайностей. Наблюдая летящих птиц, он часто размышлял над механизмом их полета; но он никогда не обобщал этого явления и не думал о механизме полета вообще и о том процессе развития, который привел к появлению живых летающих существ. Он даже и не подозревал о существовании такого процесса. Что птицы могли «стать», не приходило ему в голову. Они «были» — вот и все; уж так случилось.
И как обстояло дело с птицами, так обстояло и со всем остальным. Все его попытки философских умозаключений были обречены на неудачу из-за отсутствия знаний и навыка мысли. Средневековая метафизика Канта ничего не открыла ему, а лишь заставила усомниться в своих умственных силах. Такую же неудачу он потерпел, начав изучать теорию эволюции по слишком специальной книге Ромсиса. Единственно, что он вынес из этого чтения, — это представление об эволюции как о беспочвенной теоретической выдумке сухих педантов, изъясняющихся тарабарским языком. А теперь он увидал, что это вовсе не голая теория, но общепризнанный закон развития; что если между учеными и возникают еще по этому поводу споры, то лишь по частным вопросам о формах эволюции.
И вот явился человек — Спенсер, который привел все это в систему, объединил, сделал выводы и представил изумленному взгляду Мартина этот конкретный и упорядоченный мир с такой наглядностью, что он напоминал ому маленькие модели кораблей, которые делают матросы и продают в стеклянных банках. Не было тут ни неожиданностей, ни случайностей. Во всем был закон. Подчиняясь этому закону, птица летала; подчиняясь тому же закону, бесформенная плазма стала двигаться, извиваться, у нее выросли крылья и лапки, — и появилась на свет птица.
Мартин в своей умственной жизни шел от одной вершины к другой и теперь достиг самой высокой. Он вдруг проник в тайную сущность вещей, и познание тайн природы опьянило его. Ночью во сне он жил с богами, преследуемый величественными видениями. Днем бродил, как лунатик, видя перед своим блуждающим взором только тот мир, который открыл ему Спенсер. За столом во время обеда он не слышал разговоров и споров о разных житейских мелочах, так как его ум все время напряженно работал, вскрывая причинную связь во всем находящемся перед ним. В мясе, лежащем на тарелке, он прозревал солнечные лучи и прослеживал через все превращения их путь к первоисточнику, отстоящему на миллионы миль, пли думал о той силе, которая движет мускулы его руки, заставляя ее резать мясо, и о мозге, посылающем приказание мускулам, пока в конечном счете не доходил снова до солнечной энергии. Мартин был так одержим своими мыслями, что не слыхал, как Джим пробормотал: «Спятил», не замечал тревожных взглядов сестры и не обращал внимания на палец Бернарда Хигниботама, которым тот выразительно покрутил несколько раз около своего лба.