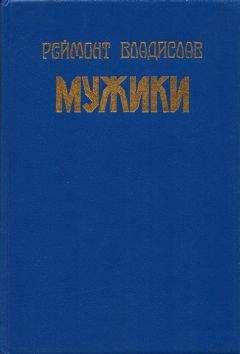Уже под вечер выехала из местечка и семья Борыны. Они продали все, что привезли, накупили всякой всячины и всласть погуляли на ярмарке. Антек гнал лошадей во весь дух, так как было холодно и все изрядно подвыпили. Старик, который обычно дрожал над каждой копейкой, сегодня так их ублажал и едой, и вином, и ласковым словом, что они диву давались. Пока доехали до леса, наступила ночь. Темно было, хоть глаз выколи, дождь все усиливался. Там и сям на дороге грохотали телеги, раздавались хриплые песни пьяных, слышно было, как пешие шлепали по грязи.
А посередине дороги, под тополями, которые глухо шумели и словно вздыхали от холода, шагал пьяненький Амброжий, то натыкался на дерево, то падал в грязь, но быстро вставал и плелся дальше, по своему обыкновению распевая во все горло.
Полил такой дождь, и было так темно, что ехавшие в телегах не различали хвостов у лошадей, а огоньки деревни мигали впереди, как волчьи глаза во мраке.
Дождь зарядил не на шутку.
С самой ярмарки все тонуло в его серой мутной пелене, только очертания лесов и деревень маячили сквозь нее, бледные и словно сотканные из мокрой пряжи. Шло бесконечное, пронизывающее, холодное осеннее ненастье. Седые ледяные плети дождя без устали хлестали землю, проникали вглубь, и каждое дерево, каждая былинка трепетали от безмерной боли.
А из-за тяжелых туч, клубившихся над землей, из-за зеленоватой завесы дождя выглядывали по временам почернелые, размокшие поля, сверкали в бороздах потоки пенившейся воды, темнели на межах одинокие деревья, словно набухшие сыростью, трясли последними лоскутами листвы и метались отчаянно, как собаки на привязи.
Пустынные дороги разлились грязными, гниющими лужами.
Тяжело влеклись короткие, печальные, бессолнечные дни, а за ними приходили черные, глухие ночи, вселявшие в душу отчаяние неустанным, монотонным плеском дождя.
Гнетущая тишина обняла землю. Безмолвны были поля, притихли деревни, заглохли леса.
Потемневшие избы словно приникли к земле, теснее жались к плетням, к голым, тихо поскрипывавшим деревьям.
Серая пыль дождей застлала мир, выпила краски, погасила все светлые пятна и погрузила землю во мрак — все представлялось каким-то сонным видением, а с размытых полей, из оцепеневших лесов, из мертвенной пустоты пространств вставала грусть и ходила по земле тяжелым туманом, останавливалась на безлюдных перекрестках под крестами, в отчаянии простиравшими руки свои на пустых дорогах, где озябшие деревья дрожали от холода и рыдали от муки. Заглядывала пустыми глазницами в покинутые гнезда, в развалившиеся хаты, бродила по кладбищам среди забытых могил и сгнивших крестов… Разливалась грусть по всему миру, по затерянным среди полей деревням, заходила в хаты, хлева, сады — и скот мычал от тоскливого беспокойства, и гнулись к земле с глухим стоном деревья, а люди горько вздыхали в мучительной тоске, неутолимой тоске по солнцу.
Дождь моросил без передышки, словно кто частой сеткой завесил мир, и Липцы тонули в густом тумане ненастья, лишь тут и там чернели крыши и каменные ограды в струях дождя и грязные клочья дыма вились над трубами и стлались по садам.
Тихо было в деревне, кое-где только молотили на гумнах хлеб, да и то редко: вся деревня на огородах снимала капусту.
Безлюдна грязная размытая дорога, пусто во дворах и перед избами, — порой мелькнет кто-нибудь в тумане и пропадет, слышно только шлепанье башмаков по грязи. Иногда медленно проползет от торфяников воз, нагруженный капустой, и распугает гусей, подбирающих упавшие с возов листья.
Озеро металось в тесных берегах, и вода все прибывала. В низких местах, на той стороне, где стояла хата Борыны, она заливала дорогу, достигала плетней и брызгала пеной на стены хат.
Вся деревня убирала и возила с поля капусту. Уже амбары, сени и комнаты были набиты ею, а у многих даже под навесами синели груды кочнов.
Перед избами мокли выставленные на дождь громадные бочки.
Торопились страшно, так как дождь почти не переставал и распутица все усиливалась, по дороге уже и сейчас почти невозможно было проехать.
У Доминиковой тоже сегодня снимали капусту.
Ягна и Шимек с утра уехали в поле, а Енджик остался и чинил крышу, протекавшую в нескольких местах.
Близился вечер, начинало уже смеркаться. Старуха часто выходила из дому и смотрела в туманную даль, в сторону мельницы, прислушиваясь, не едут ли дети.
А на огородах, лежавших в лощине за мельницей, еще кипела работа.
Сквозь мокрый седой туман, окутавший луга, поблескивали только широкие канавы, полные мутной воды, высокие гряды капусты голубели бледной зеленью, а местами рыжели, будто полосы ржавого железа. Мелькали там и сям красные юбки женщин и груды уже снятых кочнов.
А вдали над рекой, шумно мчавшейся средь густых зарослей, чернели в тумане груды торфа и телеги, к которым люди носили снизу капусту, так как размокшая земля мешала подъезжать к самым грядам.
Некоторые уже кончали уборку и собирались домой. Все громче звучали в тумане голоса и летели от гряды к гряде.
Ягна только что кончила свою полосу. Она была сильно утомлена, проголодалась и промокла до костей; башмаки уходили целиком в рыжую болотистую землю, так что приходилось их то и дело снимать и выливать из них воду.
— Шимек! Живее поворачивайся, я уже ног не чую! — крикнула она жалобно и, видя, что парень не может сам справиться, нетерпеливо вырвала у него из рук большущий мешок, вскинула его на спину и понесла к телеге.
— Этакой большой парень, а спина слабая, как у бабы после родов, — проворчала она с презрением, высыпая капусту в кузов, выстланный соломой.
Пристыженный Шимек, что-то бормоча себе под нос и почесывая затылок, принялся запрягать лошадей.
— Да поторопись же, Шимек, ночь на дворе! — подгоняла его Ягна, сносившая капусту в телегу.
Ночь действительно надвигалась, сумрак густел, чернел, а дождь усилился, и вокруг слышен был непрерывный плеск, словно кто сыпал и сыпал зерно.
— Юзя! Кончите нынче? крикнула Ягна дочке Борыны, которая вместе с Ганкой и Кубой работала неподалеку.
— Кончим! Да и домой пора, вишь, как льет, на мне все до нитки промокло. А вы уже едете?
— Едем. Ночь близко, темень такая, что, пожалуй, дороги не найдешь. Что осталось, свезем завтра. А славная у вас капуста! — добавила Ягна, нагнувшись.
— И ваша не хуже, а кочны у вас больше, чем у всех.
— А у нас рассада была из новых семян, ксендз привез из Варшавы.
— Ягна! — послышался снова из темноты голос Юзи. — Знаешь, завтра Валек Юзефов пошлет сватов к Марысе Потетковой.
— К такой девчонке? Разве уж ей годы вышли? Кажись, еще прошлым летом коров пасла!
— Нет, замуж ей уже можно, да и земли за ней столько, что парни за ней гоняются.
— Будут и за тобой гоняться, Юзя, будут…
— Коли отец в третий раз не женится! — крикнула Ягустинка откуда-то через две полосы.
— Что выдумала! Ведь мы весною только мать схоронили! — с тревогой сказала Ганка.
— А мужики на это не смотрят. Каждый мужик — что боров: как бы ни нажрался, а в новое корыто рыло сует. Ого! Одна не успеет богу душу отдать, а он уже на другую заглядывается. Бессовестные они. Вот хоть Сикору взять: через три недели после похорон первой жены уже с другой обвенчался.
— Правда. Но что ж ему было делать: после покойницы пятеро малышей осталось.
— Только дурак поверит, что он ради ребятишек женился! Для себя, — чтобы не скучно было одному под периной.
— А мы отцу не позволили бы, нет! — решительно воскликнула Юзя.
— Молода ты еще и глупа… Земля отцова, так и воля отцова!
— Дети тоже что-нибудь да значат и права свои имеют, — начала Ганка.
— Э, с чужого коня средь грязи долой! — буркнула Ягустинка и замолчала, так как рассерженная Юзя начала звать Витека, который шатался где-то у реки.
Ягна в разговор не вмешивалась, носила капусту и только усмехалась про себя, вспоминая ярмарку. Когда воз их был полон, Шимек стал выезжать на дорогу.
— Ну, оставайтесь с Богом! — крикнула она соседкам.
— Поезжайте с Богом, мы тоже вслед за вами… Ягуся, придешь к нам капусту чистить?
— Скажешь — когда, так приду. Обязательно приду!
— А ты слыхала, что в воскресенье у Клембов парни вечеринку с музыкой затевают?
— Знаю, Юзя, слыхала.
— Если встретишь дорогой Антека, скажи, что мы ждем, пусть едет поскорее, — попросила Ганка.
— Ладно.
Ягна побежала быстро, чтобы догнать телегу, потому что Шимек отъехал уже довольно далеко, и только слышно было, как он ругает лошадь. Телега увязала по самые оси в размокшем торфе. В некоторых местах приходилось ему и Ягне помогать лошади, вытаскивать ее из грязи.