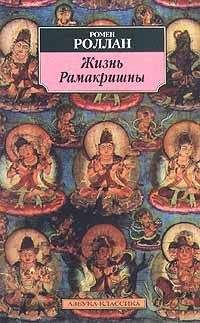Потом спустился и отвез Марка к себе в гостиницу. Марк был до того разбит, что не сопротивлялся; он не мог разжать зубы; у него замирало сердце. Он сам не знал, как очутился в комнате Жан-Казимира, на шезлонге.
– Вытянись! Полежи! – предложил ему Жан-Казнмир.
Марку сделалось стыдно. Он сказал с напускной суровостью:
– Здорово сыграли! Было на что посмотреть! Но Жан-Казимира этим нельзя было обмануть. Он был слишком чуток, чтобы продолжать разговор на эту тему. Посмотрев, как закипает кофе, он обратил внимание Марка на изящный дорожный кофейник. И когда они вдыхали аромат, подымавшийся от чашек, Жан-Казимир спросил с улыбкой арлекина:
– Ты хорошо разглядел Бэт?
– Бедная девчонка! Что-то она неважно выглядит. Похудела!
– Только не живот! Марк ахнул... Он лишь теперь понял... Больше они в тот день о Симоне не говорили.
Спустя два дня, вечером, к Марку пришел молодой человек. Его некрасивее, невзрачное, голодное лицо показалось Марку знакомым. Марк не успел припомнить, кто это, как посетитель назвал себя: адвокат Симона. Он был небольшой мастер говорить, и в словах его не чувствовалось ничего подкупающего. Но он был глубоко взволнован. Он сообщил, что его подзащитный отказался подписать – прошение о помиловании и неизбежная развязка должна вот-вот наступить. Ему предлагали высказать последнюю волю, но тщетно; однако, когда он, адвокат, уходил от Симона, тот окликнул его и сказал, что ему хотелось бы повидать Марка.
Марку этого нисколько не хотелось. Страх клубком подступил ему к горлу. Сдавленным голосом Марк сказал:
– Хорошо. Я пойду к нему, если это возможно.
Он надеялся, что это будет невозможно.
Адвокат сказал, что получил разрешение и что, если Марк согласен, можно поехать в тюрьму сейчас же: внизу ждет такси. Откладывать на завтра нельзя.
Марк встал:
– В таком случае едем! Адвокат видел, что Марк волнуется, и понимал его.
Путаясь в словах, адвокат уверял Марка, что Симон внушает ему сострадание. Он заранее знал, что дело будет проиграно. Впрочем, именно поэтому ему и подбросили такое дело, и он его принял: он понимал, как трудно приходится молодому крестьянскому парню, подавшему в развращенную атмосферу послевоенного Парижа, до какого отчаяния может его довести нужда, невозможность утолить жажду наслаждений, жестокое равнодушие близких.
Адвокат говорил с глубокой горечью, но то была горечь беспомощности. Он от рождения принадлежал к побежденным. Вверить ему свою судьбу было рискованно: Марк, рассеянно слушавший, инстинктивно от него отодвинулся.
В тюрьме было отдано соответствующее распоряжение. Их пропустили; у дверей камеры адвокат пожал Марку руку и оставил его. Марк вошел туда, как в могилу.
Сверху, через матовое стекло в окне, забранном решеткой, падал безжизненный белый свет. Никаких теней. Тенью была жизнь.
Покойник стоял в углу. Он направился к Марку.
Тот застыл на пороге и, невольно попятившись, уперся в дверь. Она уже захлопнулась. Симон увидел ужас на его лице и усмехнулся:
– Боишься? Ничего, парень, успокойся! Не с тебя ведь шкуру будут снимать... Ты – счастливчик, твоя шкура останется при тебе.
Марк покраснел. Он сказал со стыдом и болью:
– Симон! Ты думаешь, я дорожу своей шкурой? Господи, да сколько же она стоит?
Добродушным тоном Симон ответил:
– Дорого она не стоит, а все-таки береги ее! Она тебе подходит.
Он стоял перед Марком, расставив ноги и болтая руками. Марк не отваживался взглянуть на него, наконец поднял глаза и увидел остриженную под машинку голову и огромное лицо, которое беззлобно "ему улыбалось. Порыв толкнул его к Симону. Его руки, до сих пор боязливо прятавшиеся за спиной, протянулись вперед, и Симон схватил их.
– Гнусную работу я тебе задал!.. Что, малыш?.. Я знал! Я это нарочно... Я держал пари с самим собой, что ты не придешь. Я поставил об заклад свою голову... А ты пришел. Я проиграл. Что ж, это тоже выигрыш...
– Симон! – сказал Марк все еще дрожащим голосом. – Чем я могу тебе помочь?
– Ничем. Тем, что ты пришел. Ты мне доказал, что в этом борделе, который называется жизнью и который я скоро покину, есть все-таки один маленький мальчик, который не совсем еще продался, который не отрекается от себя, который не отрекается от меня... Можешь дрожать... Да, ты дрожишь... как на суде... Ты держался не очень хорошо! Тебя напугали. Тебе стало страшно, и ты поспешил попросить прощения. Ты взял свои слова обратно... Не важно, все-таки ты сказал!.. Ты вышел один против волков, горностаев и свиней... А это не так уж плохо для маленького мальчика! Я был тебе благодарен. У тебя в требухе больше честности, чем у всего стада.
Марк был более унижен, чем польщен. Он отшатнулся, готовый встать на дыбы, и с горечью заметил:
– Ты выдаешь мне патент на честность? Благодарю...
– Ты, вероятно, считаешь, что я не имею права выдавать такие патенты?
Ошибаешься, дорогой мой! В честности я толк знаю!.. Когда я говорю:
«честный», я не имею в виду кастрированного барана. Пусть у тебя вся шерсть в крови и гное, – все-таки ты честен, если не бежишь, если не говоришь, как трус: «Это не я», если плюешь им в рыло: «Я! Ме, me! adsum qui feci», <Я, я это сделал (лат.). – стих из «Энеиды» Вергилия.> если ты готов отвечать за то, что совершил...
– А ты готов? – спросил Марк.
– Я готов! И если бы можно было все начать сначала, я сделал бы то же самое... Только лучше!
Марку не хотелось спорить.
– Зачем? – пробормотал он.
– А жить зачем? Жить – значит либо убивать, либо быть убитым.
– Нет! – закричал Марк и по-детски вскинул руки, как бы защищаясь.
Симон посмотрел на него с улыбкой жалости.
– Эх, ты, молочный теленок! Тебе бы все матку сосать!.. Полно! Ведь уж на лбу рожки прорезаются!
– На арене бык всегда обречен...
– Что из того? Постарайся, чтобы по крайней мере зрелище было красиво! И выпусти кишки матадору!.. Я, как идиот, запутался рогами в лошадиных внутренностях... Ты это сделаешь лучше, чем я.
– Ты затем и вызвал меня, чтобы сказать мне это?
– А что ж тут такого? – сказал циклоп, выпрямившись во весь рост. – Это мое завещание обществу!
– Ты ему завещаешь чудовище?
Единственный глаз загорелся веселым огоньком и смягчился. Симон стиснул тяжелыми руками худые руки своего молодого друга.
– Бедное маленькое чудовище! Оно боится своей тени... Ну ничего, я тебя знаю, ты будешь бороться... Хочешь – не хочешь! Кто быком родился, быком умрет. У того не вырежут... Но это твое дело! Мне этим заниматься нечего... Я тебя вот для чего вызвал, мой мальчик (в такую минуту я лгать не стану): можно иметь дубленую шкуру и сердце потверже кулаков, можно ненавидеть людей и жалеть, что не удалось взорвать всю лавочку, а все-таки, когда собираешься исчезнуть, минутами чувствуешь слабость в ногах, и язык, пересохший бычий язык, так и чешется от желания один раз, еще один-единственный раз лизнуть шерсть другого бычка...
Он взглянул на Марка, и Марку захотелось спрятаться. Симон чувствовал, как дрожат его руки. Он шепнул Марку с грубоватой нежностью:
– Тебе было бы очень трудно меня поцеловать? Ни жив, ни мертв, Марк поцеловал его.
– Благодарю. Ступай! – сказал Симон. – Я любил тебя одного.
Марк не мог найти дверь. Симон с братской заботливостью проводил его.
У Марка не хватало сил обернуться и сказать «Прощай!» человеку, обреченному на смерть. Наутро голова свалилась.
Все эти дни Марк откровеннее, чем когда-либо, делился в письмах своими мыслями с матерью. Для душ близких разлука – самое большое благодеяние: она освобождает их от застенчивости, она ломает все лежащие между ними преграды.
Это была странная переписка. Никто бы не подумал, что это переписка матери и сына. Оба чувствовали, что стоят вне пределов общества. В глубине души они были не только свободны от его предрассудков, от его условной морали и от его законов, – к этому в наши дни пришли тысячи мужчин и женщин. Безошибочный инстинкт помог им выработать для себя свои законы, свой моральный договор о союзе и единстве, тайный договор между матерью и ее детенышем, заключенный в джунглях и продиктованный самою природой. По мере того как детеныш подрастал, их отношения менялись, мать незаметно превращалась просто в старшую и более близкую. Ведь теперь они на одном берегу, и водный поток больше их не разделяет: они пьют из него рядышком. Каждый приносит другому свою добычу – свой опыт жизни в джунглях; они им делятся – и новым и старым. И нельзя сказать, чтобы самый старый опыт казался молодому устарелым, нельзя сказать, чтобы старшая считала несущественным последний опыт младшего.
Марк написал ей все о драме, с которой жизнь столкнула его так близко, что нож гильотины, падая, казалось, просвистел над самым его ухом.
Он писал, что если нож упал не на его шею, то это простая случайность:
Симон мог быть Марком, а Марк-Симоном. Отчаяние, безумие, преступление живут в каждом из нас. Одному удается устоять, другой сваливается, кто может сказать – почему? «Это был он, но мог бы быть я. Я не имею права никого осуждать...»