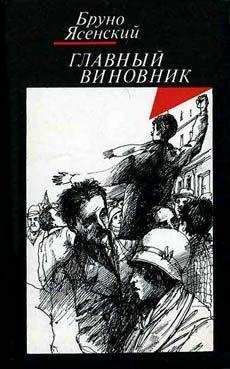П'ан Тцян-куэй, которому в ночь разгрома чудом удалось спастись от рук разъяренных фашистских когорт, снова принужден был уйти в подполье.
От мысли перебраться в рабочие кварталы он быстро отказался. На территории Латинского квартала помещались единственно уцелевшие университетские лаборатории. Эти лаборатории необходимо было во что бы то ни стало передать в руки парижского совета, который мог бы тогда развернуть планомерную борьбу с эпидемией.
Но завладеть лабораториями было нелегко. Пролетарских элементов в квартале почти не было. Красная гвардия, занятая, по-видимому, ликвидацией контрреволюционных вспышек в других кварталах, в Латинский не торопилась.
Оставалась единственная возможность: использовать антагонизм между довольно многочисленным националистическим китайским студенчеством и французами. Захватить, при поддержке этих элементов, власть на территории в свои руки с тем, чтобы передать ее при первой возможности, вместе с уцелевшими лабораториями, парижскому совету.
Не теряя времени ревностно принялся за работу.
* * *
– Окна – это картины, повешенные на мертвый каменный прямоугольник серой стены дня.
В домах на площади Пантеон[51] – по тридцати шести окон: шесть рядов по шести. В доме № 17 шестое окно в третьем ряду светит всегда днем белизной нетронутого холста, матовой серостью захлопнутых ставней, беспокоит, как задернутый бельмом глаз слепого, упорно устремленный на торжественный каменный профиль Пантеона.
Улицами сморкающегося города проезжали уже вечерние патрули «смертных карет», подбирая в домах и на мостовых тела умерших за день и уведомляя об этом живых сигналом пронзительного звонка, когда П'ан Тцян-куэй, в пижаме и ночных туфлях, толкнул рукой неподвижное крыло ставни и появился в квадрате оконной рамы с полунамыленным лицом. Кончив бриться перед зеркалом, П'ан Тцян-куэй тщательно натер лицо, руки и все тело каким-то прозрачным раствором, долго и усердно полоскал рот, старательно обрызгал из пульверизатора приготовленное белье и одежду. Совершив эти предварительные действия, П'ан Тцян-куэй быстро оделся, натянул на руки серые кожаные перчатки, плотно окутал шею шарфом (дабы возможно меньшая поверхность кожи непосредственно соприкасалась с поверхностью зачумленного воздуха) и быстро сбежал по лестнице вниз.
В маленьком китайском ресторане было в это время людно; нечего было и думать о том, чтобы найти свободный столик. После короткого колебания П'ан Тцян-куэй присел к столику в углу, занятому одиноким старым господином некитайцем, в золотых очках и с седоватой мочалкой неопрятной бородки.
Молча, не глядя на случайного соседа, П'ан Тцян-куэй наклонился над дымящейся тарелкой любимого супа из ласточкиных гнезд.
Он как раз подносил ко рту последнюю ложку, когда почувствовал вдруг чьи-то цепкие пальцы, впивающиеся в его локоть. Перегнувшись через столик, всматриваясь в него поверх очков и краснея, седоватый господин с мочалкой сказал решительным, слегка дрожавшим голосом:
– Простите за беспокойство. Мне необходимо с вами переговорить.
Подняв глаза от тарелки, П'ан Тцян-куэй посмотрел с удивлением на незнакомого пожилого господина, стараясь вспомнить, видел ли он его когда-нибудь и где именно.
– Вы, конечно, меня не припомните, – сказал пожилой господин, не спуская с П'ан Тцян-куэя глаз. – Вы слишком китаец, чтобы различать лица европейцев. Тем более, что, собственно говоря, в настоящем смысле этого слова мы никогда не были знакомы. Вы изучали у меня в Сорбонне[52] бактериологию и биохимию приблизительно лет семь тому назад. Я – ваш бывший профессор. Отношения, не обязывающие к тому, чтобы их запомнить. Другое дело – я. Я наблюдал вас всех всегда с большим любопытством.
Приезжаете вы к нам в одно прекрасное утро и, стоя еще на ступеньках вагона, как с мостков купальни, бросаетесь головой вниз в бассейн нашего знания, желая переплыть его как можно быстрее, как будто на том берегу ожидает вас какая-то волшебная, вам одним известная награда. В чуждые формы европейской мысли вы втискиваете не вмещающийся в них ваш особый ум с тем же рвением, с каким ваши женщины втискивают свои искалеченные ноги в узкие колодки своих деревянных башмаков. Я уверен, узнай вы когда-нибудь, что люди с более длинными ногами видят лучше, вы бы ни на минуту не задумались отрезать себе собственные нога и заменить их более длинными протезами.
Вы – самые лучшие, самые прилежные наши ученики и одновременно самые неблагодарные. Обутые в скороходы нашего знания, вы преспокойно оставляете их у порога собственного дома, как пару туфель, чтобы пойти дальше босиком по паркету традиции, вымощенному циновками предрассудков.
Вы как раз были одним из лучших, из самых усердных моих учеников. Понятно, это еще не повод к тому, чтобы после стольких лет возобновлять знакомство при столь изменившихся обстоятельствах.
Когда однажды вы вдруг исчезли, как множество других ваших соотечественников, я думал, признаться, что пути наши не пересекутся уже никогда. Я забыл вас, как забываешь прохожих, с которыми когда-то столкнулся и чей образ улетучивается вместе с вежливым приподнятием шляпы. К сожалению, случилось иначе. Пути наши скрестились еще раз, и с тех пор ничто уже не в состоянии их разъединить. Разве… разве радикальная ампутация.
П'ан Тцян-куэй присматривался к седоватому господину со все возрастающим удивлением.
– Простите, – сказал он кротко, – мне, однако, кажется, что вы принимаете меня за другого. Если я и изучал когда-то под вашим руководством в Сорбонне бактериологию и биохимию (кажется, это действительно так), – все же могу вас уверить самым торжественным образом, что больше ни разу в жизни я с вами не встречался.
– Нет надобности меня уверять, – сказал седой господин, глядя поверх очков. – Я знаю об этом не хуже вас. Вы действительно со мной больше никогда не встречались. Это я с вами повстречался. Я повстречался с вами в Нанкине в 1927 году. Если вы припомните, в этом году в нескольких провинциях Китая появились массовые случаи азиатской холеры. Бактериологическое общество послало меня туда произвести на месте соответствующие научные исследования. Я поехал тем охотнее, что надеялся повидаться там с моим единственным сыном; он был моим ассистентом и поступил в это время добровольцем в отряд десанта, и его броненосец стоял у берегов Китая.
Гражданская война, охватившая исследуемые мною области, принудила меня искать убежища в Нанкине. Я действительно имел возможность повидаться с моим сыном, судно которого стояло на якоре у входа в город. Но через несколько дней после моего прибытия в городе вспыхнул мятеж. Тогда-то я увидел вас во второй раз. Я увидел вас во главе разъяренной толпы, атаковавшей защищающие концессии войска десанта. Вы тогда, правда, мало напоминали кроткого, трудолюбивого студента Сорбонны, но я, несмотря на это, узнал вас сразу.
Английская концессия, в которой я нашел убежище, была разграблена отступающими китайскими солдатами, и нас, поднятых с постели, в одном белье спешно эвакуировали под охраной высадившихся на берег отрядов на ожидавший в гавани английский крейсер. В числе офицеров этих отрядов был и мой сын. Я с напряженным вниманием наблюдал с палубы в бинокль весь ход завязавшегося боя. Я видел, как из закоулков китайского города ринулась взбешенная толпа, заливая всю набережную. Во главе толпы бежали вы. Под напором разъяренной черни наши солдаты стали отступать. Тогда я увидел моего мальчика. Он бежал с револьвером в руке, останавливая бегущих и заставляя их поворачивать назад. На него наступала озверелая чернь. И я увидел, увидел собственными глазами, как вы первый подбежали к нему и размозжили ему череп прикладом винтовки…
Я потерял сознание и меня перенесли в каюту.
С этого времени я остался совершенно один. Одним ударом вы отняли у меня все. Наука, которая до сих пор была для меня воздухом, стала мне внезапно ненавистна. Сколько раз я ни пробовал взяться за работу, всегда у меня перед глазами вставал образ моего сына, и я не в силах был написать ни одной буквы…
Принимая во внимание мои заслуги в науке, мне назначили пенсию, как немощному старику, оставив за мной из милости профессорское жалованье. Я – никому не нужная крыса, питающаяся падалью собственного многолетнего труда.
Эти годы, сидя один в темной комнате, как крот, я много и часто думал о вас. Долго по ночам я искал какой-то мостик от трудолюбивого студента Сорбонны, горящего набожным восхищением, почти ревностной любовью к нашей вековой культуре и знанию, складывающего на ее алтаре накрахмаленные причудливые цветы своего восторга, – до озверелого в своей ненависти кровожадного китайца. Шатаясь вечерами по переулкам, прячась за угол, я смотрел на выходящих из Сорбонны с тетрадями маленьких косоглазых студентов, стараясь прочесть на их лицах тайну этой ненависти. Но лица их бесстрастно улыбались, неживые, точно маски.