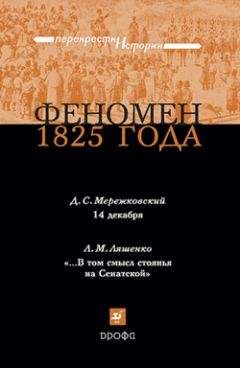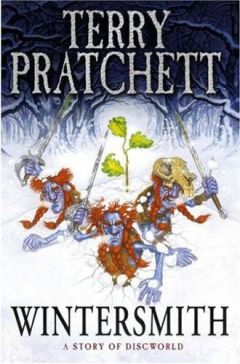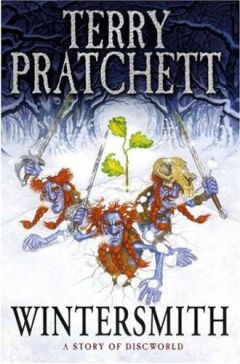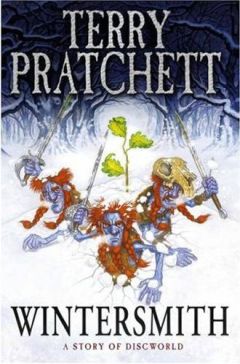– За Николая! – ответил тот.
Каховский выстрелил. Стюрлер схватился рукою за бок и побежал дальше. Двое солдат со штыками – за ним.
– Бей, коли немца проклятого! Штыки вонзились в спину его, и он упал.
Лейб-гренадеры соединились с московцами. И опять объятия, поцелуи братские.
Третье каре построилось слева от первого, лицом к набережной, тылом к Исакию.
Теперь уже было на площади около трех тысяч войска и десятки тысяч народа, готовых на все по первому знаку начальника. А начальника все еще не было.
Погода изменилась. Задул ледяной восточный ветер. Мороз крепчал. Солдаты в одних мундирах по-прежнему зябли и переминались с ноги на ногу, колотили рука об руку.
– Чего мы стоим? – недоумевали. – Точно к мостовой примерзли. Ноги отекли, руки окоченели, а мы стоим.
– Ваше благородие, извольте в атаку вести, – говорил ефрейтор Любимов штабс-капитану Михаилу Бестужеву.
– В какую атаку? На что?
– На войска, на дворец, на крепость – куда воля ваша будет.
– Погодить надо, братец, команды дождаться.
– Эх, ваше благородие, годить – все дело губить!
– Да, что другое, а годить и стоять мы умеем, – усмехнулся Каховский язвительно. – Вся наша революция – стоячая!
– «Стоячая революция», – повторил про себя Голицын с вещим ужасом.
– Да что такое происходит? Какого мы ждем неприятеля?
– Ничего не понимаю, убей меня бог! Кавардак какой-то анафемский! – подслушал великий князь Михаил Павлович разговор двух генералов. Он тоже ничего не понимал.
Вызванный братом Николаем из городка Ненналя, где остановился по дороге в Варшаву, только что прискакал в Петербург, усталый, голодный, продрогший, и попал прямо на площадь, в революцию, по собственному выражению, «как кур во щи».
Когда, после неудачи конных атак, начальство поняло, что силой ничего не возьмешь и решило приступить к увещаниям, Михаил Павлович попросил у государя позволение поговорить с бунтовщиками. Николай сначала отказал, а потом, уныло махнув рукой, согласился:
– Делай, что знаешь!
Великий князь подъехал к фронту мятежников.
– Здорово, ребята! – крикнул зычно и весело, как на параде.
– Здравья желаем вашему императорскому высочеству! – ответили солдаты так же весело.
«Косолапый Мишка», «благодетельный бука, le bourru bienfaisant», Михаил Павлович наружность имел жесткую, а сердце мягкое. Однажды солдатик пьяненький, валявшийся на улице, отдал ему честь не вставая, и он простил его: «Пьян, да умен». Так и теперь готов был простить бунтовщиков за это веселое: «Здравья желаем!»
– Что это с вами, ребята, делается? Что вы такое затеяли? – начал, как всегда, по-домашнему. – Государь цесаревич Константин Павлович от престола отрекся, я сам тому свидетель. Знаете, как я брата люблю. Именем его приказываю вам присягнуть законному…
– Нет такого закона, чтоб двум присягать, – поднялся гул голосов.
– Смирна-а! – скомандовал великий князь, но его уже не слушали.
– Мы ничего худого не делаем, а присягать Николаю не будем!
– Где Константин?
– Подай Константина!
– Пусть сам приедет, тогда поверим!
– Не упрямьтесь-ка лучше, ребята, а то худо будет, – попробовал вступиться кто-то из генералов.
– Поди к чертовой матери! Вам, генералам, изменникам, нужды нет всякий день присягать, а мы присягой не шутим! – закричали на него с такою злобою, что Михаил Павлович наконец понял, что происходит, слегка побледнел. И лошадь его тоже как будто поняла – дрогнула, попятилась.
В узеньком проулке между двумя каре – Флотским экипажем и московцами – Вильгельм Карлович Кюхельбекер нелепо суетился, метался из стороны в сторону, держа в руках большой пистолет, тот самый, который упал в снег и вымок; то натягивал, то откидывал шинель и, наконец, скинул совсем, остался в одном фраке, длинновязый, кривобокий, тонконогий, похожий на подстреленную цаплю.
– Voulez vous faire descendre Michel?[16] – произнес рядом с ним чей-то знакомый, но странно изменившийся голос, и вдруг почудилось ему, что все это уже когда-то было.
– Je le veux bien, mais oщ est-il donc?[17]
– A вон, видите, черный султан.
Щуря близорукие голубые глаза навыкате, такие же грустные и нежные, как, бывало, в беседах с лицейским товарищем Пушкиным «о Шиллере, о славе, о любви», он прицелился.
Вдруг почувствовал, что кто-то его трогает за локоть. Оглянулся и увидел двух солдат Ничего не сказали, только один подмигнул, другой покачал головою. Но он понял: «Не надо! Ну его!»
– Погоди, ребята, маленько; скорее дело кончим, – произнес тот же знакомый голос, и опять все это уже когда-то было.
Кюхельбекер поднес пистолет к самому носу и рассматривал его, как будто с удивлением.
– А ведь, кажется, и вправду смок, – пробормотал сконфуженно.
– Эх ты, чудак, Абсолют Абсолютович! Сам, видно, смок! – рассмеялся Пущин и потрепал его по плечу ласково. Голицын подошел и прислушался.
– Да ведь мы и все, господа, не очень сухи, – опять усмехнулся Каховский язвительно.
– А вы-то сами что же? Вы лучше нас всех стреляете, – проговорил Пущин.
– Довольно с меня! Уже двое на душе, а будет и третий, – ответил Каховский.
Голицын понял, что третий – Николай Павлович.
На конце Адмиралтейского бульвара и Сенатской площади, близ каре мятежников, остановилась большая восьмистекольная карета, на высоких рессорах, с раззолоченными козлами, вроде колымаг старинных. Из кареты вылезли два старичка с испуганными лицами, в церковных облачениях: митрополит Серафим – Петербургский и Евгений – Киевский.
Какой-то генерал схватил обоих владык в дворцовой церкви, где готовились они служить молебствие по случаю восшествия на престол, усадил в карету с двумя иподиаконами и привез на площадь.
Старички, стоя в толпе, перед цепью стрелков, и не зная, что делать, шептались беспомощно.
– Не ходите, убьют! – кричали одни.
– Ступайте с богом! Это ваше дело, духовное. Не басурмане, чай, а свои люди крещеные, – убеждали другие.
У митрополита Евгения, хватая за полы, чтоб удержать, оторвали палицу и затерли его в толпе. А Серафим, оставшись один, потерялся так, что даже страха не чувствовал, остолбенел, не понимал, что с ним делается, как будто летел с горы вниз головой; только крестился, шептал молитву, быстро мигая подслеповатыми глазками и озираясь во все стороны.
Вдруг увидел над собой удивленное, спокойное и доброе лицо молодого лейтенанта лейб-гвардии Флотского экипажа Михаила Карловича Кюхельбекера, Вильгельмова брата, такого же, как тот, неуклюжего, длинноногого и пучеглазого.
– Что вам угодно, батюшка? – спросил Кюхельбекер вежливо, делая под козырек. Русский немец, лютеранин, не знал, как обращаться к митрополиту, и решил, что если поп, так «батюшка».
Серафим ничего не ответил, только пуще замигал, зашептал, закрестился.
Некогда светские барыни прозвали его за приятную наружность «серафимчиком». Теперь ему было уже за семьдесят. Одутловатое, старушечье лицо, узенькие щелки заплывших глаз, ротик сердечком, носик шишечкой, жиденькая бородка клинышком. Он весь трясся, и бородка тряслась. Кюхельбекеру стало жаль старика.
– Что вам угодно, батюшка? – повторил он еще вежливей.
– Мне бы туда, к воинам… Поговорить с воинами, – пролепетал наконец Серафим, боязливо указывая пухлою ручкою на каре мятежников.
– Уж не знаю, право, – пожал Кюхельбекер плечами в недоумении. – Тут пропускать не велено. А впрочем, погодите, батюшка, я сию минуту.
И побежал. А Серафим робко поднял глаза и взглянул на лица солдат. Думал, – не люди, а звери. Но увидел обыкновенные человеческие лица, вовсе не страшные.
Немного отдохнул и вдруг, с тою храбростью, которая иногда овладевает трусами, снял митру, отдал иподиакону, положил на голову крест и пошел вперед. Солдаты расступились, взяли ружья на молитву и начали креститься.
Он сделал еще несколько шагов и очутился перед самым фронтом каре. Здесь тоже люди крестились, но, крестясь, кричали:
– Ура, Константин!
– Воины православные! – заговорил Серафим, и все умолкли, прислушались. Он говорил так невнятно, что только отдельные слова долетали до них. – Воины, утишьтеся… Умаливаю вас… Присягните… Константин Павлович трикраты отрекся… вот вам Бог свидетель…
– Ну, Бога-то лучше оставьте в покое, владыка, – произнес чей-то голос, такой тихий и твердый, что все оглянулись. Это говорил князь Валериан Михайлович Голицын.
– А ты что? Кто такой? Откуда взялся? Во Христа-то Господа веруешь ли? – залепетал Серафим и вдруг побледнел, затрясся уже не от страха, а от злобы.
– Верую, – ответил Голицын так же тихо и твердо.
– А ну-ка, ну-ка, целуй, если веруешь!
– Только не из ваших рук, – сказал Голицын и велел взять у него крест.
Но Серафим отдернул его, уже в ином, нездешнем страхе, как будто только теперь увидел то, чего боялся, – в лице бунтовщика лицо самого дьявола.