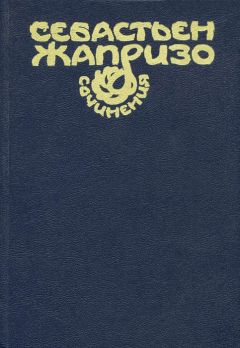Я тогда увидела – всякий голодный, он вроде людоед. Мясо сам с себя объедает, одни кости остаются, жир до последней капельки. Потом он разумом темнеет – значит, и мозги свои съел. Съел голодный себя всего.
Еще я думала – каждый голодный по-своему умирает. В одной хате война идет, друг за другом следят, друг у дружки крохи отнимают. Жена на мужа, муж против жены. Мать детей ненавидит. А в другой хате любовь нерушимая. Я знала одну такую, четверо детей, – она и сказки им рассказывает, чтобы про голод забыли, а у самой язык не ворочается, она их на руки берет, а у самой уж силы нет пустые руки поднять. А любовь в ней живет. И замечали люди – где ненависть, там скорей умирали. Э, да что любовь, тоже никого не спасла, вся деревня поголовно легла. Не осталось жизни.
Я узнала потом – тихо стало в деревне нашей. И детей не слышно. Там уж ни игрушек, ни супа куриного не надо. Не выли. Некому. Узнала, что пшеницу войска косили, только красноармейцев в мертвую деревню не допускали, в палатках стояли. Им объясняли, что эпидемия была. Но они жаловались, что от деревень запах ужасный шел. Войска и озимые посеяли. А на следующий год привезли переселенцев из Орловской области – земля ведь украинская, чернозем, а у орловских всегда недород. Женщин с детьми оставили возле станции в балаганах, а мужчин повели в деревню. Дали им вилы и велели по хатам ходить, тела вытаскивать – покойники лежали, мужчины и женщины, кто на полу, кто на кроватях. Запах страшный в избах стоял. Мужики себе рты и носы платками завязывали – стали вытаскивать тела, а они на куски разваливаются. Потом закопали эти куски за деревней. Вот тогда я поняла – это и есть кладбище суровой школы. Когда очистили от мертвых избы, привели женщин полы мыть, стены белить. Все сделали, как надо, а запах стоит. Второй раз побелили и полы наново глиной мазали – не уходит запах. Не смогли они в этих хатах ни есть, ни спать, вернулись в Орловскую обратно. Но, конечно, земля пустой не осталась – земля ведь какая!
И словно не жили. А многое чего было. И любовь, и жены от мужей уходили, и дочерей замуж отдавали, и дрались пьяными, и гости приезжали, и хлеб пекли… А работали как! И песни спевали. И дети в школу ходили… И кинопередвижка приезжала, самые старые, и те ходили картины смотреть.
И ничего не осталось. А где же эта жизнь, где страшная мука? Неужели ничего не осталось? Неужели никто не ответит за это все? Вот так и забудется без следа? Травка выросла.
Вот я тебя спрашиваю: как же это?
Вот видишь, и прошла наша ночка, уже светает. Пора нам с тобой на работу собираться.
Голос у Василия Тимофеевича был негромкий, движения нерешительные. Когда заговаривали с Ганной, она опускала карие глаза и отвечала едва слышно.
А после женитьбы они совсем застеснялись: он, пятидесятилетний человек, которого соседские дети называли «диду», засмущался, засовестился оттого, что седеющий, лысый, с морщинами женился на молодой девушке, счастлив своей любовью, глядя на нее шепчет: «Голубка моя… серденько мое». Когда-то ей, девчонке, представлялся будущий муж, – он и Щорс, и лучший гармонист на селе, и пишет задушевные стихи, как Тарас Шевченко. Но ее кроткое сердце понимало силу любви к ней неудачливого, бедного, всегда жившего не своей, а чужой жизнью, робкого пожилого человека. А он понимал ее молодую надежду, – вот придет сельский лыцарь и уведет ее из тесной хаты отчима… А пришел за ней он, в старых чоботах, с большими темными мужицкими руками, виновато покашливая, и вот смотрит он на нее с обожанием, счастьем, виной, горем. И она виновата перед ним, кротка, молчалива.
И сын у них, Гриша, родился тихий, никогда не заплачет, и, похожая после родов на худенькую девочку, мать иногда подходила к люльке ночью и, видя, что мальчик лежит с открытыми глазами, говорила:
– Та ты хоть поплачь трошки, Гришенька, чего ты все мовчишь та мовчишь?
И в хате муж и жена разговаривали вполголоса, а соседи удивлялись:
– Та чего це вы так тыхо балакаете?
И странно – она, молодая женщина, и он, пожилой, некрасивый мужик, были очень схожи своими кроткими сердцами, своей робостью.
Работали они оба безотказно и даже вздохнуть стеснялись, когда бригадир несправедливо гнал их не в очередь в поле.
Однажды Василий Тимофеевич по наряду от колхозной конюшни поехал с председателем в райцентр, и, пока председатель ходил в райзо, райфо, он, привязав лошадей к тумбе, зашел в раймаг и купил жене гостинец – маковников, леденцов, сушек, орешков, всего понемножку, по сто пятьдесят граммов. Когда он, войдя в хату, развязал белую хусточку, жена радостно, по-детски всплеснула руками, вскрикнула: «Ой, мамо», и Василий Тимофеевич, застеснявшись, вышел в сени, чтобы она не увидела его счастливых, плачущих глаз.
Она ему на риздво вышила узор на рубашке и так уж не узнала, что Василий Тимофеевич Карпенко в эту ночь почти не спал, подходил босыми ногами к комодику, на котором лежала рубашка, гладил ее ладонью, щупал вышитый крестиками незамысловатый узор. Он вез жену из родильного отделения районной больницы, она держала на руках ребенка, и ему казалось, что проживи он тысячу лет – он не забудет этого дня.
Иногда ему становилось жутко – мыслимое ли дело, чтобы в его жизни случилось такое счастье, мыслимо ли вот так проснуться среди ночи, прислушаться к дыханию жены и сына.
Разве тихая, робеющая перед всеми людына имела право на такое дело?
Но вот так оно было. Он шел с работы к дому и видел пеленочку, сохнувшую на плетне, и дымок из трубы. Он смотрел на жену – она наклонилась над люлькой, ставит на стол тарелку борща и улыбается чему-то, он глядит на ее руки, на волосы, выбившиеся из-под хустки, он слушает, что говорит она о немовлятке, о соседней овце. Иногда она выходила в сени, и он скучал, даже тосковал, ожидая ее, а когда она возвращалась – он радовался, и она, уловив его взгляд, кротко и грустно улыбалась ему.
Василий Тимофеевич умер первым, опередив на два дня маленького Гришу. Он отдавал почти все крохи еды жене и ребенку и потому умер раньше их. Вероятно, в мире не было самопожертвования выше того, что проявил он, и отчаяния больше того, что пережил он, глядя на обезображенную смертным отеком жену и умирающего сына.
Ни упрека, ни гнева к великому и бессмысленному делу, что совершали государство и Сталин, не испытал он до последнего своего часа. Он даже не задал вопроса: «За что?», за что ему и его жене, кротким, покорным, трудолюбивым, и тихому годовалому мальчику определена мука голодной смерти.
Перезимовали скелеты в истлевшем тряпье вместе – муж, молодая жена, их маленький сын, бело улыбались, не разлученные после смерти.
Потом уж, весной, когда прилетели скворцы, зашел в хату, прикрывая рот и нос платком, уполномоченный земельного отдела, оглядел керосиновую лампочку без стекла, образок, комодик, холодные чугуны, кровать и сказал:
– Тут двое и малэ.
Бригадир, стоя на пресвятом пороге любви и кротости, кивнул, сделал пометку на клочке бумаги.
Выйдя на воздух, уполномоченный посмотрел на белые хаты, на зеленые садки, сказал:
– После того как уберете трупы, восстанавливать ось эту развалюху нема смысла.
И бригадир вновь кивнул.
На службе Иван Григорьевич слышал рассказы о том, что в горсуде берут взятки, что в радиотехникуме можно купить отметки для ребят, державших конкурсные экзамены, что директор завода отпускает за взятки остродефицитный металл артелям, производящим ширпотреб, что зав-мельницей построил себе двухэтажный дом на краденые деньги, застелил в нем полы дубовым паркетом, что начальник милиции отпустил на волю знаменитого воротилу ювелира, взяв с его родных невероятную взятку в шестьсот тысяч рублей, что даже отец и хозяин города – первый секретарь горкома – может за мзду приказать председателю горсовета выдать ордер на квартиру в новом доме на главной улице.
С утра инвалиды волновались. Стало известно пришедшее из области заключение по делу кладовщика самой богатой в городе артели «Мехпошив». Артель изготовляла шубы, зимние дамские пальто, пыжиковые и каракулевые шапки. И хотя главным обвиняемым по делу оказался скромный кладовщик, дело было грандиозное – оно, подобно осьминогу, опутало жизнь и труд большого города. Этого заключения ждали давно, и по поводу него обычно шли споры во время обеденного перерыва. Одни говорили, что приехавший из Москвы в область следователь по особо важным делам не побоится обнародовать причастность к делу всего городского начальства.
Ведь даже детям было известно, что городской прокурор ездит в подаренной ему плешивым заикой кладовщиком «Волге», что секретарю горкома привезли из Риги подаренную кладовщиком мебель – спальный и столовый гарнитуры, что жена начальника милиции, иждивением артельного кладовщика, на самолете отправилась в Адлер, где два месяца жила в санатории Совета Министров, и что в день отъезда ей было подарено кольцо с изумрудом.