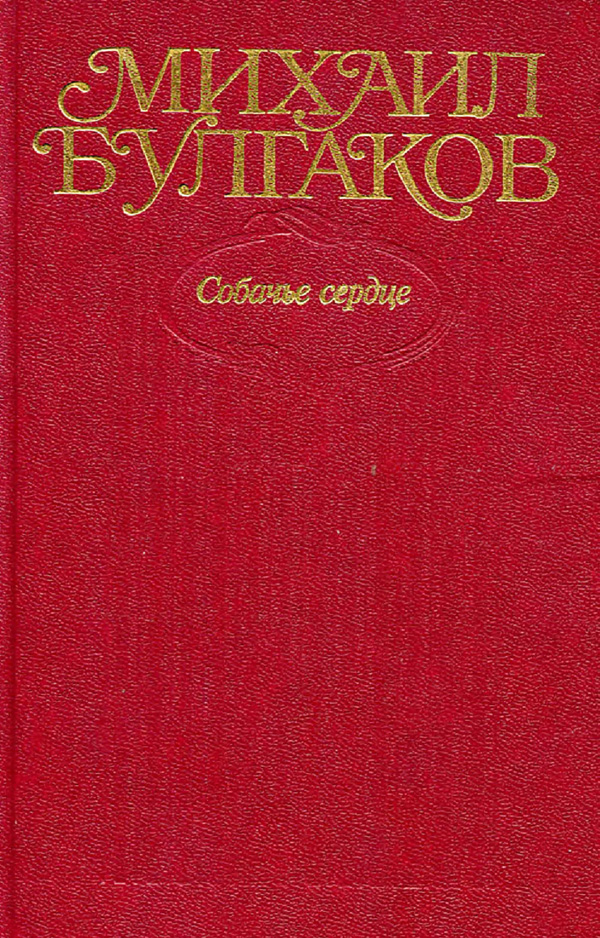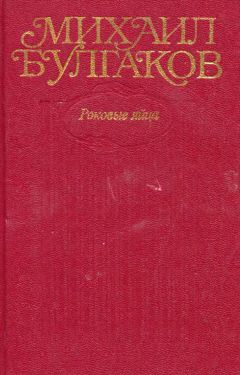в товар. кассе, билет. кассе, канцелярии и тех. конторе, а у меня получилось по 1 экземпляру, почему я и прошу еще по 3 экземпляра», — отчаянно пишет начальник станции Юзово и от страху превращается в подписи из Козакила в Козелкова.
И это через месяц, 19 нояб. 1923 г.
Поддержка пришла
«ДС.
Ходатайствую об удовлетворении просьбы ДС Юзово».
Подписал А. Пурлис (быв. Пулплу).
И скрепил бывший Кешевлент, а нынешний Конвой.
Чудеса, товарищи!
«ДС Юзово.
По разъяснению Д № 396444 от 4 декабря с. г. дорогой получено из центра всего лишь 60 экземпляров колдоговоров, вследствие чего выслать больше не может, а рекомендуется обращаться с ходатайством в местный местком».
Крышка? Нету...
Кто ж так разочаровал бедного начальника станции Козакила?
Представьте, тот самый Пуплу, который за него ходатайствовал.
Для разнообразия подписался А. Пулит...
Это было уже за 2 дня до Рождества, 23 декабря.
Что ж таперича делать Козакилу?
Делать ему больше ничего не остается, как опять податься в местком.
Он и подался.
«Местком Юзово на № 807.
...прилагая... за N...» и т. д., «прошу прислать... такое количество, какое вы находите нужным» и т. д.
24 декабря, в сочельник.
Прислали?
Неизвестно.
Местком пишет под Новый год...
Вывесить требуется, «но снабжением должным количеством ведает хозорган».
Засыпался Козакил! Больше некуда.
На сем переписка обрывается. При всей переписке бумага неизвестного человека.
В редакцию газеты «Гудок».
При сем учкультран посылает вам материал (9 января 1924 г.).
Мерси.
Повесили ли, в конце концов, колдоговор?
Может быть, и повесили. И висит он и улыбается своими бесчисленными параграфами.
— Повесили-таки, черт меня возьми!
А может быть, и не повесили.
И даже вернее, что нет.
Потому что в толстой пачке-переписке есть несколько штучек документов, в коих вопль, что молока не дают. А в колдоговоре сказано ясно, что молоко давать нужно.
Вот оно какие дела...
Документы читал М. Ол.-Райт.
Вступление
Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921–1924 годов. О нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался во все почти шестые этажи, в каких только помещались учреждения, а так как не было положительно ни одного шестого этажа, в котором бы не было учреждения, то этажи знакомы мне все решительно. Едешь, например, на извозчике по Златоуспенскому переулку в гости к Юрию Николаевичу и вспоминаешь:
— Ишь домина! Позвольте, да ведь я в нем был! Был, честное слово! И даже припомню, когда именно. В январе 1922 года. И какого черта меня носило сюда? Извольте. Это было, когда я поступил в частную торгово-промышленную газету и просил у редактора аванс. Аванса мне редактор не дал, а сказал: «Идите в Златоуспенский переулок, в шестой этаж, комната №...» Позвольте, 242? а может, и 180?.. Забыл. Не важно... Одним словом: «Идите и получите объявление в Главхиме»... или в Центрохиме? Забыл. Ну, не важно... «Получите объявление, я вам 25%». Если бы теперь мне кто-нибудь сказал: «Идите объявление получите», — я бы ответил: «Не пойду». Не желаю ходить за объявлениями. Мне не нравится ходить за объявлениями. Это не моя специальность. А тогда... О, тогда было другое. Я покорно накрылся шапкой, взял эту дурацкую книжку объявлений и пошел, как лунатик. Был совершенно невероятный, какого никогда даже не бывает, мороз. Я влез на шестой этаж, нашел комнату № 200, в ней нашел рыжего лысого человека, который, выслушав меня, не дал мне объявления.
Кстати, о шестых этажах. Позвольте, кажется, в этом доме есть лифты? Есть. Есть. Но тогда, в 1922 году, в лифтах могли ездить только лица с пороком сердца. Это во-первых. А во-вторых, лифты не действовали. Так что и лица с удостоверениями о том, что у них есть порок, и лица с непорочными сердцами (я в том числе) одинаково поднимались пешком в шестой этаж.
Теперь другое дело. О, теперь совсем другое дело! На Патриарших прудах, у своих знакомых, я был совсем недавно. Благодушно поднимаясь на своих ногах в шестой этаж, футах в 100 над уровнем моря, в пролете между 4-м и 5-м этажами, в сетчатой трубе, я увидал висящий, весело освещенный и совершенно неподвижный лифт. Из него доносился женский плач и бубнящий мужской бас:
— Расстрелять их надо, мерзавцев!
На лестнице стоял человек швейцарского вида, с ним рядом другой, в замасленных штанах, по-видимому, механик, и какие-то любопытные бабы из 16-й квартиры.
— Экая оказия, — говорил механик и ошеломленно улыбался.
Когда ночью я возвращался из гостей, лифт висел там же, но был темный, и никаких голосов из него не слышалось. Вероятно, двое несчастных, провисев недели две, умерли с голоду.
Бог знает, существует ли сейчас этот Центро- или Главхим, или его уже нет! Может быть, там какой-нибудь Химтрест, может быть, еще что-нибудь. Возможно, что давно нет ни этого Хима, ни рыжего лысого, а комнаты уже сданы и как раз на том месте, где стоял стол с чернильницей, теперь стоит пианино или мягкий диван и сидит на месте химического человека обаятельная барышня с волосами, выкрашенными перекисью водорода, читает «Тарзана». Все возможно. Одно лишь хорошо, что больше туда я не полезу ни пешком, ни в лифте!
Да, многое изменилось на моих глазах.
Где я только не был! На Мясницкой сотни раз, на Варварке — в Деловом дворе, на Старой площади — в Центросоюзе, заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле. Меня гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание — найти себе пропитание. И я его находил, правда скудное, неверное, зыбкое. Находил его на самых фантастических и скоротечных, как чахотка, должностях, добывал его странными, утлыми способами, многие из которых теперь, когда мне полегчало, кажутся уже мне смешными. Я писал торгово-промышленную хронику в газетку, а по ночам сочинял веселые фельетоны, которые мне самому казались не смешнее зубной боли, подавал прошение в Льнотрест, а однажды ночью, остервенившись от постного масла, картошки, дырявых ботинок, сочинил ослепительный проект световой торговой рекламы. Что проект этот был хороший, показывает уже то, что, когда я привез его на просмотр моему приятелю, инженеру, тот обнял меня, поцеловал и сказал, что я напрасно не пошел по инженерной части: оказывается, своим умом я дошел как раз до той самой конструкции, которая уже светится на Театральной площади. Что это доказывает? Это доказывает