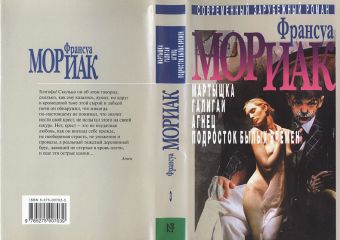— Не думай, что я заставлю тебя жить в такой нечеловеческой жаре. Мы будем приезжать сюда только на время, подышать свежестью...
Мари не ответила. Она с трудом шагала по песку. Должно быть, ее все время мучило составленное нами письмо. Она сказала:
— Представляю себе чувства твоей матери, когда она прочтет письмо, и, что ни говори, она будет права. А она еще не знает, что я старше тебя на десять лет... И всего, что было со мной за эти годы... И ты... такой, как ты...
— Такой, как я? Что хорошего в этом затянувшемся детстве, в том чудовище, которое ты называешь ангелом? А ты, Мари... Люди должны были оберегать тебя, а оказались кровожадными волками...
Я увидел, что она плачет. Мы прошли лугом к берегу Юра и сели на ствол поваленной ольхи. Прижавшись ко мне, она продолжала плакать. Я сказал: «Осторожно, здесь крапива». Эта крапива вокруг нас превратится в моих воспоминаниях в мяту, в ароматные листочки, которые я растирал между пальцами. А чахлый ручеек под ольховыми деревьями — немало из них теперь уже вырублено — сольется, как всегда, с отчаянием вечного убывания; он увлекал меня за собой вместе со всем, что меня окружало, и я значил не больше, чем вырезанные из сосновой коры кораблики, которые мы с Лораном пускали вниз по течению... А эта прижавшаяся ко мне женщина, которая больше не плакала, это бедное, служившее другим тело, заботу о котором я взял на себя до конца моей жизни...
Туман не рассеивался, но пробивавшиеся сквозь него солнечные лучи жгли невыносимо. Должно быть, днем будет гроза. Хоть бы пролился наконец дождь на жаждущие ланды, где каждый день то там, то здесь вспыхивали пожары: говорили, что виноваты пастухи, но достаточно было солнечного луча, упавшего на осколок бутылки... Какая таинственная алхимия преображает в моих воспоминаниях все ничтожные подробности, словно то, что они отошли в прошлое, дает им право на преображение!
Лучше было дожидаться часа отъезда у Дюберов, там было прохладнее. Мы рассчитывали сесть в поезд на станции Низан, в десяти километрах от Мальтаверна. Туда мы доедем на двуколке Прюдана. Я предупредил Мари, что придется ехать сразу же после завтрака, в самый зной, когда даже скот не выходит на волю. «И даже Вошка», — прошептала Мари.
Тряска в гремящей двуколке под палящим полуденным солнцем, среди роя слепней и мух, по выбитой пыльной дороге — вот каким кошмаром закончился наш сон в летнюю ночь. Я сидел на заднем сиденье между обливавшимся потом Симоном и Мари. Руку я прижал к спинке сиденья, чтобы предохранять Мари от толчков. Она держалась прямо, неподвижная, безмолвная, а я со своим даром угадывать тайные чувства других людей — я знал, что в ее душе волшебный Мальтаверн нашей ночи превращается в проклятую землю, от которой надо бежать не оглядываясь. Мы услыхали автомобильный рожок, потом шум мотора. Стелла, наша старая кобыла, встала на дыбы. Нас обогнал «серполле», где сидело за рулем какое-то чудовище в очках. Пыль поднялась такая, что Прюдану пришлось постоять на обочине дороги.
Поезд запаздывал. Мы ждали его почти в полном одиночестве на раскаленной платформе заброшенной станции, среди клеток с подыхающими от жажды курами.
Мари умолила меня не приходить на улицу Эглиз-Сен-Серен в отсутствие ее матери, которая уехала в Сулак. Мы можем видеться сколько угодно в ее закутке в книжной лавке.
Наша лестница на улице Шеврюс казалась раем. За те три дня, что мы с Симоном прожили вместе, поджидая ответа от мадам, мы не раз покидали маленькую гостиную и спасались от жары на ступенях этой ледяной лестницы. Ночами, еще более душными, чем дни, нас осаждали несметные полчища самых крупных, самых ядовитых москитов, какие только водились в наших широтах. У меня была кровать с пологом: прежде чем заснуть, мне следовало только проверить, не запер ли я в клетку вместе с собой и какого-нибудь хищника. Но на кровати Лорана полога теперь не было. На второй же день я увидел, что у Симона все лицо перекосилось: москит ужалил его в веко. Он был удивлен, что меня это огорчает.
— Да это пустяки, господин Ален. Стоит ли беспокоиться из-за москитов, из-за шишки над глазом!
Спал он тем не менее отлично и на рассвете ушел из дому. Верно, хотел присутствовать на мессе. Я не решился спросить у него, но, по правде говоря, не сомневался в этом. После завтрака мы встретились в темной, прохладной книжной лавке, где почти не было покупателей. Бард отдыхал в Аркашоне и всецело положился на Мари. Балеж был болен или притворялся больным. В витрине новинок я нашел «Антологию современных поэтов» Леото и Ван-Бевера и, читая ее, совершал открытие за открытием. Особенно нравились мне стихи некоего Франсиса Жамма: «Вот-вот посыплет с неба снег...» Они восхищали меня, «ранили радостью», но я не мог разделить это счастье ни с Мари, нечувствительной к такого рода поэзии, ни с Симоном, нечувствительным к поэзии вообще; кроме того, Симон гораздо больше нас тревожился, ожидая ответа мадам. Он торопил меня домой: «Скоро должны принести почту...
Мы пересекли улицу Сент-Катрин и по узкой улочке Марго спустились к улице Шеврюс. Я шел немного позади Симона, глядя себе под ноги, весь поглощенный сочинением какой-то истории. Вдруг меня оглушили слова Симона, хотя он произнес их вполголоса:
— Мадам здесь! Приехала мадам!
Я поднял голову в полной растерянности. Да, мамин «дион», наше ручное чудовище, стоял перед крыльцом. Что же нам делать? Я посоветовал Симону вернуться в книжную лавку и предупредить Мари. Я встречусь с матерью один на один и, как только смогу, присоединюсь к ним. Он не заставил себя долго просить и пустился наутек. Я трусливо позавидовал ему: ведь мне предстояло выступить в одиночку против этого опасного, разгневанного божества. Как могли мы быть настолько глупы, чтобы не ждать от нее другого ответа, кроме письма, чтобы не предположить, что она обрушится на нас сама, явившись перед нами во плоти?
Впрочем, этот приезд не был немедленной реакцией: ведь с тех пор, как Прюдан вручил ей наше письмо, прошло три дня. Очень скоро я узнал, что побудило ее примчаться на улицу Шеврюс. Едва я вошел в маленькую гостиную, где она стояла, не успев еще снять шляпку, как она прижала меня к груди:
— Бедный мой малыш! Какое счастье, что я приехала не слишком поздно.
Она не сомневалась, что стоит ей рассказать мне все об этой девице, как я от нее откажусь и не смогу больше думать о ней без отвращения. Я узнал, что, получив наше письмо, два дня она провела словно пораженная громом. Потом она отправилась посоветоваться с господином настоятелем, и то, что она от него узнала, превзошло, по ее словам, своей мерзостью и без того омерзительную историю сборщика налогов. Когда разразился этот скандал, господин настоятель был викарием в Лепарре. В то лето он поддерживал не постоянные, но все же довольно близкие отношения с отцом X. Таким образом, ему стал известен другой скандал, хотя и не разразившийся, но гораздо худший, чем первый.
В глазах моей матери женщина, способная соблазнить священника, духовное лицо, грешить с ним или хотя бы, поправилась она, пытаться согрешить (в том случае, если, как утверждают друзья отца X., ничего не произошло, не следует впадать в грех необоснованного осуждения), — такая женщина одержима дьяволом, проклята и одним своим прикосновением может перенести на другого это проклятие, как постыдную, неизлечимую болезнь.
— Теперь ты видишь, ты сам онемел от отвращения...
— Да нет же, бедная мамочка, я все это знал.
— Знал?!
Изумление лишило ее дара речи. Я все знал — и собирался дать этой девице свое имя, познакомить ее с матерью, подарить ей Мальтаверн, связать с ней навсегда свою жизнь! Она закрыла лицо руками хорошо знакомым мне театральным жестом.
— Боже мой, — простонала она, — чем я прогневила тебя?
Этот жест почти всегда сопровождался ропотом на бога. И на этот раз тоже.
— Попытайся понять, мама.
Я напомнил ей, что любое событие выглядит по-иному, если взглянуть на него с другой стороны. Орден, к которому принадлежит отец X., встал на его защиту, приписав всю вину дурной женщине, истеричной девушке, которая желала погубить его, но ничего не добилась. Вот этот-то звон и услышал наш настоятель. Однако речь шла о совсем юной девушке, верующей христианке, преданной ученице святого отца, которая в постигшем ее жестоком горе не ведала другой опоры, кроме него.
— Я знаю, кем была она во всей этой истории, мрачное продолжение которой тебе неизвестно: маленькой мученицей. Да, вот кем она была. А теперь, — добавил я, — она будет моей женой, которую я имел счастье встретить на своем пути.
— Ты сошел с ума, бедное мое дитя, она свела тебя с ума!
Мы опасались разгневанного божества, а передо мной стояла сраженная горем мать, удрученная христианка, которую мои слова скорее утвердили, нежели поколебали в ее убеждениях. Впрочем, мне никогда не приходилось видеть, чтобы мама задумывалась над чужими доводами или хотя бы выслушивала их. Она искала носовой платок в своем ридикюле, стоя посреди комнаты, глядя на чудовище, в которое превратился ее сын. Она высморкалась, вытерла глаза. Я попытался обнять ее, поцеловать, но она отшатнулась, словно боясь моего прикосновения. Может быть, ей действительно было страшно?
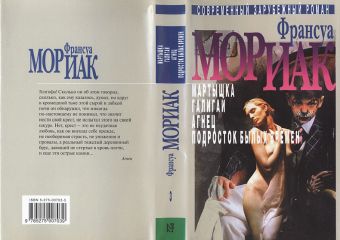
![Франсуа Мориак - Том 3 [Собрание сочинений в 3 томах]](https://cdn.my-library.info/books/135894/135894.jpg)