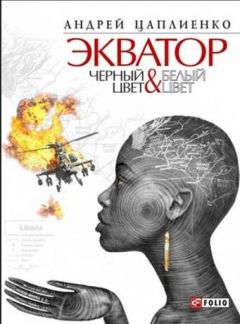Паника охватила обитателей Королевской ночлежки. Милочка была для всех бесценным сокровищем. Хьюги с Джонсом бросили работу, чтобы ухаживать за больным щенком. Сидели возле нее по очереди. Держали на ее лобике прохладную влажную тряпку, но с каждым днем Милочке становилось все хуже и хуже. В конце концов отправили к Доку делегацию, Элена и Джонса, хотя им очень не хотелось идти. Док в это время изучал карту морских приливов и отливов и одновременно поглощал куриное рагу, главным составным которого была не курятина, а морские огурцы [То же, что голотурии, беспозвоночный тип иглокожих]. Посланцам Королевской ночлежки показалось, что Док взглянул на них не очень приветливо.
— Мы из-за Милочки, — сказали они. — Милочка заболела.
— Что с ней?
— Мак говорит — чумка.
— Я не ветеринар, — сказал Док. — Не знаю, как лечат чумку.
— Ну и что ж? Вы только взгляните на нее. Она черт-те как болеет.
Пока Док осматривал Милочку, ребята стали в кружок, не отрывая от нее глаз. Он посмотрел глазные яблоки, десны. Пощупал ребрышки, которые выпирали, как спицы, слабенький позвоночник.
— От пищи отказывается? — спросил Док.
— Ничего не ест.
— Кормите ее насильно крепким бульоном и яйцами, давайте рыбий жир.
Док показался им холодным и официальным. Осмотрев Милочку, он вернулся к своим картам и рагу.
Но у Мака и ребят теперь появилось занятие. Они варили мясо, пока бульон не приобретал крепости виски. Они вливали ей рыбий жир как можно глубже в глотку, чтобы она хоть сколько-нибудь проглотила. Они держали морду так, чтобы рот образовал воронку, и лили туда теплый бульон. Ей оставалось или захлебнуться, или глотать. Они кормили ее каждые два часа и все время давали пить. Раньше они спали по очереди, теперь не спал никто, сидели возле нее молча и ждали кризиса.
Кризис наступил под утро. Ребята дремали в своих креслах, бодрствовал только Мак, не сводя глаз с Милочки. Вдруг он заметил, что у нее дрогнули ушки, поднялась и опустилась грудная клетка. Шатаясь, она поднялась на свои тонюсенькие ножки, потащилась к двери, попила немножко воды и, обессилев, легла на пол.
Мак радостным воплем разбудил ребят. Он неуклюже плясал по комнате. Все стали что-то кричать друг дружке. Ли Чонг, вынося баки с мусором, услыхал их и презрительно фыркнул. Альфред, привратник, решил, что у Мака пирушка.
К девяти часам Милочка сама съела сырое яйцо и выпила полпинты взбитых сливок. К полудню она стала заметно набирать вес. Через день она уже немножко играла, а к концу недели Милочка опять стала веселым, здоровым щенком.
Наконец-то в этой полосе бедствий забрезжил луч надежды. Признаки добрых перемен стали заметны всюду. Сейнер починили, спустили на воду, и он опять вышел в море. Доре передали, что можно спокойно открывать «Медвежий стяг». Эрл Уэйкфилд поймал двухголового ерша и продал его музею за восемь долларов. Полоса бедствий и тщетного ожидания кончилась. От нее не осталось и следа. В ту ночь занавески в окнах лаборатории были опущены, до двух часов ночи слышались Грегорианские песнопения, а когда музыка смолкла, от Дока никто не вышел. Какая-то работа совершалась в сердце Ли Чонга, и в минуту восточного влияния он простил Мака и ребят, списал лягушачий долг, который был главной причиной душевных мук. В знак примирения Ли Чонг взял пинту Старой тенисовки и понес Маку. Их хождения в магазин «Дешевые товары» задевали его чувства, но теперь с этим будет покончено. Визит Ли как раз совпал с первым здоровым проявлением разрушительного инстинкта у Милочки после болезни. Ее вконец избаловали, и никто больше не собирался приучать ее к чистоплотности. Когда Ли Чонг вошел в Королевскую ночлежку с бутылкой тенисовки, Милочка самозабвенно уничтожала единственные кеды Элена, а хозяева радостно ей хлопали.
Мак никогда не ходил в «Медвежий стяг» по чисто мужской надобности. По его мнению, это отдавало бы кровосмешением. Подобное заведение было у бейсбольных площадок, туда он и наведывался. Вот почему, когда Мак переступил порог гостиной, все решили, что он заглянул выпить пива.
— Дора у себя? — спросил он Альфреда.
— А какое у тебя к ней дело? — в свою очередь, спросил Альфред.
— Мне надо кое-что у нее спросить.
— Что?
— Не твое, черт возьми, дело, — ответил Мак.
— Ладно. Как знаешь. Пойду узнаю, захочет ли она говорить с тобой.
Секунду спустя он провел Мака в святая святых «Медвежьего стяга». Дора сидела за откидной конторкой. Ее апельсинового цвета кудряшки были уложены в высокую прическу, глаза защищал зеленый козырек. Толстым пером она делала записи в бухгалтерской книге-старинном добротном гроссбухе для ведения двойной бухгалтерии. На ней был роскошный шелковый розовый халат с кружевами у запястий и горла. Услыхав, что вошел Мак, Дора повернулась на вращающемся стуле и посмотрела на него. Мак стоял и молчал, ожидая, когда Альфред уйдет. Альфред ушел и притворил за собой дверь.
Дора подозрительно смотрела на Мака.
— Ты зачем пришел? — спросила она.
— Видите ли, мэм, — сказал Мак, — вы, конечно, слыхали, что мы наделали недавно у Дока?
Дора сдвинула на темя козырек и сунула ручку в старинную, из спиральной пружины державку.
— Да, — сказала она, — слыхала.
— Видите ли, мэм, мы хотели угостить Дока. Можете не верить, но мы хотели устроить ему вечеринку. А он не приехал вовремя. И все пошло-поехало не туда.
— Слыхала, слыхала, — сказала Дора. — А чем же я могу вам помочь?
— Видите ли, — сказал Мак, — мы с ребятами решили спросить вас, что нам такое сделать, чтобы Док понял.
— Хм-м, — протянула Дора.
Она откинулась на стуле, положила ногу на ногу и разгладила на коленях халат; взяла сигарету, закурила и стала думать.
— Вы устроили для него вечеринку, на которой его не было. Ну так сделайте для него вечеринку, чтобы он на ней был, — сказала она.
— Бог ты мой, — сказал Мак дома ребятам, — все так просто. Дора — гениальная женщина. Неудивительно, что она хозяйка. Гениальная женщина.
Мэри Талбот, жена Тома Талбота, была красотка. У нее были рыжие волосы, чуть в прозелень, золотистая кожа, как бы подсвеченная изнутри зеленым, и зеленые глаза с золотистыми искорками. Овал лица у нее был лисий, треугольный — широкий в скулах и сужающийся к подбородку. У нее были длинные ноги танцовщицы и стопы, как у балерины. Когда она шла, ноги ее почти не касались земли. Чуть она разволнуется, а волновалась она постоянно, лицо ее вспыхивало золотом. Ее пра-пра-пра-пра-прабабку сожгли на костре как ведьму.
Больше всего на свете Мэри Талбот любила приглашать гостей и ходить в гости. Том Талбот зарабатывал совсем мало, и Мэри редко устраивала званые вечера; что поделаешь, приходилось иногда звонить приятельнице и напоминать: «Мне кажется, тебе уже пора пригласить нас на чай».
Мэри праздновала шесть дней рождений в году, устраивала маскарады, вечеринки с фантами, словом, всякие развлечения. На Рождество у нее в доме было особенно весело. Мэри расцветала на праздниках. И муж ее держался на гребне ее энтузиазма.
Под вечер, когда муж работал, Мэри иногда приглашала на чашку чая соседских кошек. Ставила кукольные чашки с блюдцами на табуретку для ног. Собирала в дом кошек, а их было кругом множество, и вела с ними долгую, увлекательную беседу. Это была ее любимая игра. Смех и горе — игра эта заслоняла, застила ей тот факт, что у нее совсем не было красивых платьев, а у мужа денег. Почти всю жизнь они были на мели, но стоило немножко наскрести денег, Мэри непременно устраивала веселый праздник.
Она это умела. Она могла заразить весельем весь дом этот свой дар она использовала как оружие против депрессии, которая всегда бродила поблизости, подкарауливая Тома. Мэри видела в этом свое призвание — оберегать Тома, ведь все же знали, что Тому уготовано судьбой блестящее будущее. По большей части ей удавалось не пускать на порог мрачные мысли, но иногда они все-таки прорывались и посылали Тома в нокдаун. Тогда он садился в угол и часами уныло глядел в одну точку, а Мэри принималась лихорадочно раздувать встречный огонь веселья.
Как-то первого числа месяца навалились сразу все неприятности: пришло суровое напоминание от водопроводной компании, нечем было платить за квартиру, вернули рукопись и несколько карикатур из журналов; в довершение всего обострился плеврит; Том ушел в спальню и лег.
Мэри тихонько вошла к нему — из-под двери и сквозь замочную щелку валили клубы самой черной тоски. В руках у нее был букетик белых и розовых ибериек, обернутый бумажным кружевом.
— Понюхай, — сказала она и поднесла цветы к его носу. — Ты знаешь, какой сегодня день? — спросила она и стала судорожно рыться в памяти — вдруг на счастье сегодня чей-нибудь день рождения.
— Почему хоть один раз не взглянуть правде в лицо? — сказал Том. — Мы банкроты. Мы на самом дне. Какой смысл заниматься самообманом?