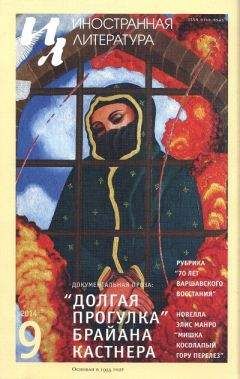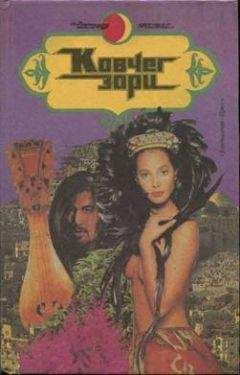Тяжки и плящи морозы.
Кует зима звездный небесный свод.
Днем, как и ночью, норовил Кот поспать, похрапеть, поваляться, позевать, потянуться, и уж ты от Кота ничего не добьешься — ни за холодную воду. Но нападал добрый стих: вдруг раздобрится Кот, поведет долгим усом, — и начинается сказка, ладно удуманная, хорошо улаженная, зимняя копоулова сказка.
Не ведьма Дундучиха застилает на ночь стол скатертью, не ступой закостила наброжая — кроет землю белый снег, летят-падают хлопья надранными лохмотьями, воет, вьется вьюга, выбухает вихорь, метет метель-поземелица, закуделила.
Третий день и грустна и печальна коротает дни в серебряном тереме царевна Чучелка.
Третий день, как печален и грустен уехал царевич Коструб за Лукорье.
За морем Лукорье, там реки текут сытовые, берега там кисельные, источники сахарные, а вырии-птицы[245] не умолкают круглый год.
Полпути не проехал царевич, занемог в дороге и помер. И в чужом краю его схоронили.
Вот среди ночи слышит царевна, под окном кто-то кличет:
— Чучелка, Чучелка, отвори!
Вся зарделась царевна: узнала Коструба.
Думает царевна: «Это он, это жених, царевич вернулся с дороги!» Встала. Отворила.
— Бери свои белые платья, жемчуг. Я в чужом краю завоевал себе землю, мой подземный дворец краше Лукорья.
Надела Чучелка белые платья, жемчуг. Спешит на крыльцо.
А он ее за руку и на коня.
Взвился конь и помчались.
Мчатся. Мчится царевич с царевной. Страх змеей заползает на сердце: видит царевна, под нею не конь, таких не бывает, а ветер.
Ветер-вихорь несет их сквозь темные леса, сквозь мхи и болота — ржавцы болота в шары-бары — пустое место.
Поравнялись с церковью, повернули на кладбище.
Тут конь исчез.
И вдвоем остались они над могилой: царевич Коструб и царевна. А в могиле чернеет из-под снега дыра.
— Вот мои земли, там мой дворец, там мы отпразднуем свадьбу: дни будут вечны и пир наш веселый без печали, без слез… — полезай!
— Нет, — отвечает царевна, — я дороги не знаю, ты — наперед, я — за тобою.
Послушал царевич царевну, пропал в могиле.
И одна осталась царевна над черной дырой. Сняла с себя платья — да в могилу.
— На же, тяни за собою. Вот белые платья, вот жемчуга! — и, сбросив в могилу все до сафьянных сапожков, заткнула дыру, да бежать без дороги по снегу, сама не знала куда.
Летела царевна, летела — вдалеке огонек мелькает — прытче бежит. Добежала, смотрит: изба — одна одинока изба стоит среди поля. Бросилась к двери, вломилась в сени, да в горницу…
Мертвец на лавке лежит, больше нет никого, и светит свеча.
Царевна со страха на печку, забилась в угол, сидит тихонько.
А там на кладбище, а там на могиле обманутый вышел из гроба царевич. Созвал Коструб мертвецов и полетел с мертвецами вслед по царевну.
Прилетел до избы, кричит через окно:
— Мертвец, отвори мертвецу! Будем с живым пир пировать!
Зашевелился мертвец: то ногой, то рукой поведет. А потом с лавки как встал и пошел, дверь отворил.
И нашло мертвецов полным-полна изба. Окружили печь, кличут царевну:
— Вылезай, вылезай — будем пир пировать!
— У меня нет рубашки и сафьянных сапожков, принесите мне: там они на могиле! — говорит мертвецам царевна.
Посылает царевич мертвеца на могилу.
И вернулся мертвец, принес и рубашку и сапожки.
И опять кличут царевну.
А она им: то, говорит, рукавичек нет, то платка у нее нет, то пояса…
Но мертвецы ей все из могилы достали: все платья, весь жемчуг до последней крупинки.
Кличут царевну:
— Вылезай, вылезай — будем пир пировать!
И надела царевна белые платья, жемчуг, — вышла. Вышла царевна. И в кругу мертвецов замерла.
А! как обрадован мертвый живому!
— Я тебе верен за гробом, — целовал царевну мертвый царевич, и с поцелуем живая кровь убывала — теплая кровка текла в его холодные синие жилы.
Третьи петухи пропели — мертвецы разлетелись по темным могилам, там, в могилах, облизывали красные губы.
Не вернулась царевна в свой серебряный терем. Нашли Чучелку утром — белая, как белый снег, без единой кровинки, далеко в чистом поле в мертвецкой избе.
Вьется вьюга и воет, валит и, опрокидывая, руша, сбивает с ног. Разворотила, нелегкая, дубья-колодья, замела дверь, засыпала окна — хоронит серебряный Чучелкин терем.
Холодна зима — белый снег.
Дождались весенней поры. Уходила зима. А была она долгая и суровая — снег по пазуху. Наступили первые теплые дни.
Ясных дней еще нет. Ясный Яр не отомкнул еще неба. Огненный, разбудил Яр черную землю.
И пусть свистит в поле ветер, пусть свистом зовет зима снег на помощь! Снег тает в поле, и раз от раза темнеет река.
Вздуется лед, тронется река — грозно Яр разомкнет горячее небо — поплывет река, и, широкая, зашумит она, как грозовое небо.
— Руки наши крепки, глаза видят ясно, и мы поплывем! — повторяет за Алалеем верная Лейла.
Они на воле. Так они рады весеннему первому дню.
Они на воле, они встретили первый цветок.
Как печален и грустен первый весенний цветок!
Сон-трава — синеглазый подснежник — глядела печально, и на тяжелых темных ресницах горела слезинка.
Что огорчает ей сердце? Ждет ли кого? Или нет никого, кто бы утешил печальное сердце?
У цветов есть мать, у Сон-травы — мачеха. Разбудит Яр землю. Проснется земля. Но еще спят под землею и трава и цветы.
«Просыпайся, иди на землю, там светло, там все твои браться и сестры, там играют птицы!» — скажет мачеха нелюбимой синеглазой сиротке.
И, послушная, она выйдет на землю одна, без братьев и сестер, одна из-под снега. Еще спят под землей и трава и цветы.
Ее в колыбели никто не баюкал, ее на руках никто не нянчил, ее ласковым словом никто не забавил…
Печально и грустно стоит Сон-трава — синеглазый подснежник.
В тихом вечере тихим полетом плывут по теплому небу перелетные птицы.
Птицы все прилетят в свои гнезда. И выйдет из леса медведь. И закукует горькая кукушка.
— Руки наши крепки, глаза видят ясно, и мы полетим! — повторяет за Алалеем верная Лейла.
Они на воле. Так они рады весеннему дню.
И синеглазая Сон-трава печально глядит на них.
— Ты, сестрица, дождешься солнца! — сказала ей Лейла, и далеко разносился ее голос по воле: — Солнце, солнышко, выгляни, высвети! Солнце, солнышко!
Уж заря, золотясь, осыпается розами в реку.
Отошли дни потемы[248], потухли всполохи[249].
Уж по заре златорукое солнце возносит руки над миром, зарное[250], нет ему белого облака, чтобы закрыться, захватить все небо.
Небо обняло землю, горячо обнимает.
И земля принялась за свой род.
Первая — Верба. Верба, еще из-под снега распушив свои алые гибкие лозы, тихо подымает веки, и седые пушистые вии озолотились слезами.
И куда ни пойдешь, и куда б ни взглянул, встретишь вестницу мая — печальную Вербу.
«Я, последний и самый любимый, рожденный в Купальскую ночь[251], расскажу тебе, Лейла, о моей матери Вербе.
Моя речь невнятна, — я очень долго молчал, мои слова странны, — я очень стар.
Я не помню, как это было, — мои руки сухи, мои пальцы вялы, а у моей матери руки были влажны и пальцы крепки.
У меня было много братьев, сестер, сестер-братьев, все они были старше и разбрелись по земле, кочуя до самого края. Их было так много, их было больше, чем звезд на небе.
Я помню — мои ноги быстры и легки, как крылья, а во лбу свети-цвет[252] купалы. «Ты засвети свой цвет, Купало!» — сказала мне мать.
Я помню — мы шли искать новую землю: на старой нам стало тесно. Мы шли долго в ночи, раскапывали пальцами землю — гадали о будущих днях. Черная, сбросив белые снеги, земля лежала под нами и, тая, дымилась, а в ее черном сердце зависть свивала гнездо.
Моя мать сильна и всех прекрасней. И пускай после мая знойные дни и жгучие вихри, и пускай по болотам в полночь, заманивая путников в гибель, сверкают огни-одноглазы, и полднем Полудницы[253] летят в пыли вихрей, и пускай, чуя мертвых, вопит Карина[254], и пускай несет темная Желя[255] погребальный пепел в своем пылающем роге, — моя мать сильна и всех прекрасней.
И на земле цветов было меньше, чем моих братьев, и на земле лесу было меньше, чем моих сестер, и на земле рек-озер было меньше, чем моих сестер-братьев.