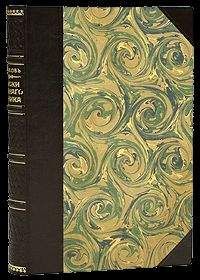— Да что я, урод, что ли! Ну ясно, не красавец, но и не урод ведь.
— Дело не в красоте и не в уродстве. Дело в интеллекте. Дело в малоинтеллектуальном выражений твоего лица, а также в заниженном моральном уровне. Тебе следует подтянуться. Ты, Чухна, неряшлив, ты выпиваешь, ты много куришь — тебе пора начать жить по-новому. Поставь, как я, точку на все, что было, и воспитывай в себе самодисциплину!
— Ничего, пожалуй, не выйдет у меня с этой самодисциплиной, — ответил я. — Я и сам чувствую, что Леля в сто раз порядочнее меня, но мне лучше не стать.
— Ты, Чухна, только начни и — главное — будь упорен. И потом, знаешь, я всегда помогу тебе своим личным опытом. У тебя всегда перед глазами будет живой пример.
— Так у тебя твоя эта прозрачная жизнь только пятый день идет. Еще неизвестно…
— Она будет идти и десятый, и сотый, и тысячный день! — отрезал Костя. — В этом ты можешь не сомневаться.
На следующей день с утра стояла по-августовски теплая, пасмурная, но без дождя погода — самая моя любимая. Я никогда не любил ясных солнечных дней. Ясный день чего-то от тебя требует, хочет, чтобы ты был лучше, чем на самом деле, а ленинградский серенький денек как бы говорит: ничего, ничего, ты для меня и такой неплох, мы уж как-нибудь поладим. И вот встал я в восемь часов, тихо сходил на кухню, приготовил чай, тихо выпил два стакана — а Костя все спал. Он спал лицом вверх, и лицо у него было настороженное, будто он боялся, что кто-то вот-вот разбудит его и начнет допрашивать, не нарушил ли он правил новой жизни, не выкурил ли лишней папиросы, не поддался ли дурному влиянию друзей.
Тихо закрыв за собой дверь комнаты, я миновал коридор и безлюдную в этот час кухню, и, наращивая скорость, прыгая сперва через две, потом через три, потом через четыре ступеньки, ссыпался с лестницы, и, уже заряженный скоростью, ходко зашагал по тротуарным плитам. Шагать было легко и приятно, я обгонял редких прохожих, окна домов толчками двигались мне навстречу. Но когда я свернул на проспект Замечательных Недоступных Девушек, то есть на Большой, я вдруг подумал, что слишком уж спешу. Неудобно так рано заявиться к Леле: может, она еще спит, а может, еще только проснулась. И я затормозил, не спеша прошел мимо Симпатичной линии, побрел на бульвар, остановился у щита «Читай газету».
«Ленинградская правда» была только что наклеена, клейстер еще проступал влажными сероватыми пятнами. Кино: «Великан», днем — «Искатели счастья», вечером — «Любимая девушка». Новая школа на пр. 25 Октября (это рядом с ателье «Смерть мужьям»). «Зенит» победил «Металлурга» (Москва), счет 2:1… Артиллерийская дуэль через Ла-Манш… Спекулянт дровами получил по заслугам… Слет призывников Ленинграда… Две тысячи германских самолетов над Англией… На съемках фильма «Музыкальная история»… Учения ПВО в г. Красногвардейске… Отмена отпусков в румынской армии…
Тут кто-то легко тронул меня за руку.
— Леля! — удивился я. — Лелечка!.. Я только что о тебе думал.
— Ты же газету читал.
— Понимаешь, читаю газету — а о тебе думаю. «Зенит» у «Металлурга» выиграл — а я о тебе думаю, съемка фильма — а я все равно о тебе… А ты?
— Да, — ответила она. — Да. Я тоже о тебе… Это ты расческу в почтовый ящик бросил?
— Я. А что?
— Нет, ничего… Куда мы пойдем сейчас? Я вообще-то в магазин шла. Но, может быть, пройдем к Неве?
— Давай к Неве. — Я взял ее под руку, и мы пошли вдоль Большого. На Леле была темная кофточка и черная юбка много ниже колен, и в руке авоська из кусочков сапожной кожи. Авоську эту я уже видел, а все остальное было очень городское. И у самой у нее был какой-то очень уж городской вид, я не привык к ней такой. И какая-то независимость в голосе, в движениях, в походке, и рост выше — или это от английских каблуков? Мне вдруг показалось, что не так уж она и рада встрече со мной. Может, я хорош был для нее там, в Амушеве, а здесь, в городе, поинтереснее фрайера есть?
Мы свернули в безлюдный, тихий и мрачноватый Соловьевский переулок. Панели там были совсем узенькие. Мы шли по мостовой, направляясь к Румянцевскому обелиску, маячащему вдали. Леле неловко было ступать в своих городских туфельках по крупным выпуклым булыжникам, и она то теснее прижималась ко мне, то словно отшатывалась. Она рассказывала, что отец опять уехал, что уже послезавтра она начнет работать в чертежном бюро, что ее уже почти оформили, — а я слушал, и все время мне казалось, что она стала какой-то другой, и я ей, может быть, не так уж и нужен. Я невпопад отвечал на ее вопросы, во мне росла неловкость, готовая перейти в обиду, в отчуждение. «Не везет нам, гопникам, с порядочными», — вспомнил я слова Кости.
— Ты что?.. — спросила вдруг Леля, повернувшись ко мне.
— Как «что»? — сказал я. — Я ничего…
Она вдруг вырвалась от меня, стуча каблучками, неловко побежала вперед и стала лицом ко мне, бросив авоську наземь:
— Гражданин! Предъявите документы!
Я подошел к ней, и она положила руки мне на плечи. Глаза ее и губы были совсем близко. Но тут из обшарпанной кирпичной подворотни вышла старушка с толстой дымчатой кошкой на руках и внимательно, без осуждения посмотрела на нас. А кошка строго мяукнула. Мы подняли авоську и пошли дальше.
— Ну вот, — сказала Леля. — Знаешь, мне вдруг стало казаться, что ты меня позабыл.
— А мне показалось — ты меня позабыла. Я просто псих. Но теперь все, все хорошо.
— Да-да-да! Теперь у нас все хорошо, — повторила Леля.
Переулок стал казаться мне очень уютным — век бы здесь прожил. Но он уже кончился. Через чугунную калитку вошли мы в Соловьевский сад, под его старые деревья, и сели на скамью. Обелиск «Румянцева победам» уходил ввысь, в невысокое серое небо. Было тихо, только из музыкальней ротонды, как из рупора, порой доносились голоса мальчишек. Они разбились на две партии и, размахивая палками, играли в войну. С Невы иногда слышался гудок буксира.
— Когда мама была жива, она водила меня гулять в этот сад, — сказала Леля. — По субботам вот в этой ротонде играл красноармейский духовой оркестр. Они всегда играли что-то грустное, а я тихо сидела и слушала, и мне было хорошо-хорошо. Даже все на свете лучше казалось из-за того, что они грустное играют. Ты это понимаешь?
— Конечно, — ответил я. — Ты расскажи мне о себе еще что-нибудь.
— Хорошо, я расскажу тебе, но только глупое. Вот там, слева от эстрады, есть ход вниз, там женская уборная. Мы с девочками иногда забивались туда слушать, как шумит вода. Там бачок через каждые несколько минут автоматически выливается, и с таким шумом! И вот мы забирались туда и ждали. Как только вода загудит, зашумит — мы все толпой выбегали из этой уборной, будто нам очень страшно. И однажды я сшибла с ног пожилую даму. Мама меня за это строго наказала, оставила без сладкого. И папа сказал: «Так и надо этой девчонке!»
— А что было на сладкое? — спросил я.
— Кисель. Это я хорошо помню, мы ведь жили небогато, кисель был не каждый день.
— Зато у нас кисель каждый день, — похвастался я.
— Знаю, ты говорил, — улыбнулась Леля. — Сплошной праздник — кисель и сардельки. Как вам не стыдно так питаться, ведь это от лодырничества! Взрослые люди, и ни один не догадается приготовить нормальный обед! Вам надо собраться, договориться… — Она вдруг осеклась, вспомнив, что теперь не так уж нас много.
— Косте сейчас не до нормальных обедов, — торопливо начал я, чтобы вывести ее из смущения. — У Кости начался приступ прозрачной жизни… Пойдем опять по Соловьевскому?
Когда мы снова вошли в этот переулок, он уже не был так безлюден, мы встретили нескольких прохожих.
— Испортился Соловьевский, — сказал я. — Тот, да не тот.
— Все равно это хороший переулок, — не оборачиваясь ко мне, проговорила Леля. — Ты его еще не переименовал?
— Нет. Может быть, назовем его так: Выяснительный переулок?
— Это что-то не то. Это бюрократизм. Назовем знаешь как? Назовем так: Кошкин переулок. Никогда не забуду я этой смешной кошки.
— Заметано! Гражданочка, по какому это я иду переулку?
— Вы, гражданин, идете по Кошкину переулку.
Мы пересекли Большой, дошли до Среднего и свернули налево. У кирки на углу Третьей линии и Среднего мы остановились. В кирке размещался какой-то склад, но начхать было ей на это. Контрфорсы, узкие стрельчатые окна, башенки с шишками на остриях — все уходило в высоту. От склада, от Среднего проспекта, от трамваев, от нас.
— Это пламенеющая готика, — сказала Леля. — Только она здесь искажена… Это папа мне объяснял, что искажена… А как ты думаешь, они там теперь молятся в Германии в своих кирках или нет? Я где-то прочла, что Гитлер вводит новую религию.
— Культ Вотана, — сказал я. — А чего им молиться, у них и без моленья все как по маслу идет. Францию за полтора месяца взяли.
— Неужели и у нас с ними будет война? — спросила Леля. — Некоторые говорят…