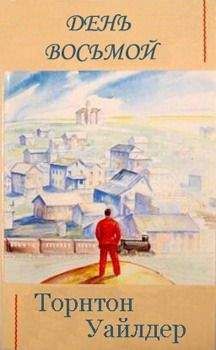Ознакомительная версия.
Говоря о людях, умеющих верить, мы главным образом пользовались характеристиками «от противного»: не трусливы, не своекорыстны, не интересны, лишены чувства юмора, зачастую необразованны. Так в чем же, спрашивается, их человеческая ценность?
Мы не выбираем дня своего появления на свет, не дано нам выбирать и день своей смерти; между тем способность выбирать есть драгоценнейшее из свойств разума. Мы не выбирали себе родителей, цвет кожи, пол, здоровье, природные способности. Нас просто вытряхнули в жизнь, как игральные кости из стаканчика. Заграждения и тюремные стены окружают нас и наших ближних; мы повсюду наталкиваемся на препятствия, внутренние и внешние. Людям, о которых мы говорим, наблюдательность и память помогают рано расширить свой кругозор. Они знают самих себя, но их собственное «я» не единственное окошко, через которое они смотрят на жизнь. По их твердому убеждению, некоторой, пусть малой, частью всего, что человеку дано, человек вправе распоряжаться свободно. Это чувство свободы они постоянно укрепляют в себе. Их взгляд устремлен в будущее. И в грозный час они выстоят. Они отстоят город — а если погибнут, потерпев неудачу, их пример поможет потом отстоять другие города. Они вечно готовы бороться с несправедливостью. Они поднимут упавших и вдохнут надежду в отчаявшихся.
Но на что же обращена вера этих людей?
Им трудно было бы подыскать слова для ответа на наш вопрос. Для них это самоочевидно, а самоочевидное плохо поддастся определению. Зато те, кто на деле не верят ни во что, никаких затруднений в таких случаях не испытывают. Во весь голос безостановочно разглагольствуют они о вере «в жизнь», в «сущность бытия», в бога, в прогресс, в человечество, не стесняясь пускать в ход все запретные словеса, все истрепанные ярлыки, все заемное краснобайство предателей.
Не может быть творчества без надежды и веры.
Не может быть надежды и веры без стремления выразить себя в творчестве. Люди, о которых мы говорим, — прежде всего работники. К тунеядству они непримиримей, чем к ошибкам, невежеству или жестокости. Их работа порой не видна, оттого она кажется незначительной, как нее действия тех, кто ни мгновения не рассчитывает на публику.
К этой породе людей принадлежал Джон Эшли. История к нему требований не предъявляла, и мы не знаем, как он выполнил бы требования истории. Он медленно взрослел и никогда не был любителем умствовать. Он так и остался почти что невидимкой. Многие потом пробовали увидеть его в его детях. Он был звено в цепи, стежок в ткани гобелена, один из тех, что сажают деревья и дробят камень на старой дороге, ведущей пока еще неясно куда.
Эшли понятия не имел, кому он обязан своим освобождением. Может быть, чудеса всегда совершаются так — просто, буднично и непостижимо. Освободители действо вали быстро и четко, не произнося ни единого слова. Прежде всего они разбили все фонари. Конвойные с криками заметались в наступившей тьме, выстрелили раз-другой но сразу же прекратили стрельбу. Наручники на запястьях Эшли разомкнулись. Его вывели — скорей, вынесли — из вагона, и он очутился в лесу. Кто-то из неизвестных друзей положил его руку на седло лошади. Другой дал ему поношенный синий комбинезон, кошелек с пятнадцатью долларами, компас, карту и коробок спичек. На голову ему надели старую шляпу с обвислыми полями — по-прежнему молча и не зажигая огня. Только под конец один чиркнул спичкой, и Эшли на миг увидел их лица. Эти лица, грубо вычерченные сажей, делали их похожими не на негров-железнодорожников, а на клоунов из ярмарочного балагана. Самый высокий жестом указал ему направление, потом отвел вытянутый палец градусов на пятнадцать вправо.
Эшли сказал: «Спасибо вам».
Они канули в темноту, стука лошадиных копыт не было слышно.
Просто, буднично и непостижимо.
Оставшись один, он зажег спичку и сверился с компасом. Путь, указанный высоким, лежал сперва на юго-запад, потом на запад. Эшли знал, что находится у железной дороги, невдалеке от станции Форт-Барри. В шестидесяти милях к западу текла Миссисипи. Он быстро пере оделся, свернул свою арестантскую одежду в узел и привязал к передней луке седла. К седлу были приторочены два мешка — с яблоками и с овсом.
Изумление перед свершившимся переполняло его. Он засмеялся едва слышно: «Ну и ну! Ну и ну!»
Он уже был готов к тому, что умрет, только для Джонов Эшли «умереть» никогда не означает сегодня, сейчас; всегда впереди есть еще месяц, день, час, пусть хоть минута жизни. Страх был ему незнаком. Страха он не испытывал, даже слушая приговор в суде, даже отправляясь в свое, как, наверно, писали газеты, «последнее путешествие». Джоны Эшли самый худший исход не представляют себе как реальный.
Когда в темноте леса вспыхнула спичка, он посмотрел на лошадь, и лошадь посмотрела на него. Он вскочил в седло и выжидательно замер. Лошадь неторопливым шагом пошла вперед. Различала ли она незаметную для человека тропку в густом подлеске? Возвращалась ли инстинктивно к своему стойлу? Минут через десять он снова чиркнул спичкой и поглядел на компас. Они неуклонно продвигались на юго-запад. Он разломил яблоко, половину дал лошади, половину съел сам. Они ехали не останавливаясь. Через час они выехали на широкий проселок и взяли вправо. Дважды он заслышал за собой всадников, направлявшихся в ту же сторону. Но оба раза успел съехать с дороги и спрятаться в чаще деревьев. Спустя немного под копытами лошади застучал деревянный настил моста; переехав мост, они спустились к воде и напились. После этого они прибавили шагу. Эшли словно бы с каждым часом молодел. В нем нарастала дерзкая, непозволительная радость. Тюрьма, не сломившая его нравственно, но измучившая физически, была позади. Время от времени он спешивался и шел с лошадью рядом. Он чувствовал потребность говорить. Лошади, должно быть, правилось, что с ней разговаривают: в мерцающем свете звезд видно было, как она прядет ушами.
— Как твое имя? Бесси?.. Молли?.. Белинда?.. Мне ведь тебя подарили. Не часто случается получать такие подарки ценой в целую человеческую жизнь. Узнаю ли я когда-нибудь, что побудило этих шестерых рискнуть собственными головами, чтобы спасти мою? Или так и умру, не узнав этого?
— Угадал! Евангелина, вот как тебя зовут, — Евангелина. Приносящая благие вести… А странно, не правда ли? Кто мог предвидеть, когда ты появилась на свет, что тебе предстоит стать участницей необыкновенного приключения, подвига великодушия и отваги. Кто мог знать, когда тебя объезжали — а страшно это, наверно, когда тебя объезжают, Евангелина, страшно и тягостно! — кто мог знать тогда, что тебе суждено на своей спине унести человека к жизни, к свободе!.. Ты — знамение, Евангелина. Мы с тобой оба отмечены судьбой.
Поговорив, он окончательно развеселился. Краем уха прислушиваясь, не едет ли кто-нибудь следом, он даже мурлыкал обрывки своих любимых песенок «Нита, Жуанита», «Китайская прачечная» и песни студенческого братства, к которому он принадлежал в годы учения в техническом колледже: «Мы до гробовой доски будем Каппа Кси верны».
Небо над горизонтом заалело. В Коултауне зори были тусклые и безрадостные. А сейчас его поразило развертывавшееся перед ним зрелище. Так вот что стоит за словами «Во всей красе занялся новый день». У дорожного перекрестка он прочитал указатели: на юг «Кеннистон, 20 миль», на северо-восток «Форт-Барри, 14 миль», на запад «Татум, 1 миля». Он проехал через Татум, по-рассветному белесый и пустой. Проехал он еще две мили и, следуя течению неширокого ручья, свернул в лесную чащу налево. Сняв прикрученную к седлу веревку длиной семь ярдов, он привязал Евангелину. Насыпал овса в шляпу (сперва подув сверху, понюхав и взяв щепотку в рот) и поставил перед нею на землю. В мешке с яблоками нашлось несколько печеных картофелин. Он сел и стал есть, временами поглядывая на Евангелину.
Мальчишкой Эшли доводилось ездить верхом во время летних каникул на ферме бабки Мари-Луизы Сколастики Дюбуа-Эшли. До двадцати лет он никого так не любил, как эту чудаковатую, нравную старуху с серыми глазами, и никто не любил его такой суровой, взыскательной любовью. Она, кроме всего прочего, была настоящим ветеринаром без диплома. Со всей округи приводили к ней больную скотину. И многих окрестных фермеров она допекала нелестными замечаниями об их хозяйственных способностях. С лошадьми она вела себя так, будто понимала их язык. Рогатый скот, кошки и собаки, разная лесная тварь от косуль и до скунсов — все ее принимали как свою. И днем, и нередко ночью при свете керосиновой лампы Джон помогал ей давать пилюли, делать впрыскивании, ставить припарки. Они вместе принимали телят и жеребят, вместе усыпляли животных, которым уже нельзя было помочь иначе. Он запомнил навсегда некоторые из ее наставлений: «Никогда не смотри в глаза лошади, собаке или ребенку дольше чем несколько секунд — их это смущает. Не гладь лошадь по шее, лучше похлопывай, а потом сразу похлопай по ляжке и себя. Не делай неожиданных движений ногами. Помни, что у лошади ноги и зубы служат для нападения и защиты от врага. Вон Джо Деккер имеет привычку закрывать дверь конюшни пинком, и все конское поголовье фермы его ненавидит. Если знаешь, что придется пустить в дело кнут, стегни кнутом самого себя, так чтобы лошадь видела это. Прежде чем задать лошади овса, зачерпни немного, понюхай, пожуй, дунь, чтоб он разлетелся по сторонам, и тогда только поставь перед ней, будто нехотя». В Коултауне Эшли завел лошадь и тарантас. Лошадь, по кличке Белла, досталась ему задешево — чересчур была норовиста и хозяин хотел от нее избавиться. Он ездил на ней десять лет в таком добром ладу и согласии, какие только в сказках бывают. И вот теперь он со стороны украдкой оглядывал Евангелину: кобыла немолодая, но ухоженная, и подковы в порядке.
Ознакомительная версия.