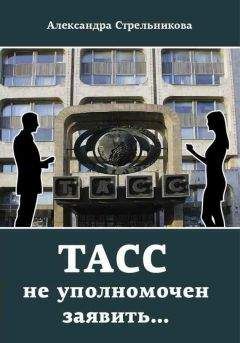— Ее светлость герцогиня Укакская?
Черномазая задрала платье, чтобы его не запачкать, и вытерла руки о панталоны:
— Это я, — сказала она.
Улан отдал честь, вручил ей большой конверт, снова отдал честь, вскочил в седло и ускакал.
Оставшись одна, герцогиня присела на корточки и с любопытством стала рассматривать конверт: она повертела его во все стороны, поднесла к уху и, настороженно повернув голову набок, встряхнула. Потом встала, пошла в дом, на цыпочках поднялась к себе в спальню и, воровато осмотревшись, сунула конверт под циновку.
В течение часа Черномазая трижды бросала стирку и бежала в дом посмотреть, цело ли ее сокровище. Когда же в полдень приехал обедать генерал, она с затаенным страхом вручила ему письмо.
— Смотри-ка, Черномазая, мадам Байон приглашает нас завтра на обед во французское посольство.
— Ты пойдешь?
— Говорю же, нас позвали вдвоем, старушка. Приглашение адресовано тебе. Ну, что скажешь?
— Господи, я буду обедать с мадам Байон! Вот это да!
Герцогиня не могла скрыть своего возбуждения, она откинула назад голову, закатила глаза и, мыча от удовольствия, принялась, как безумная, прыгать по комнате.
— Молодец, старик, ничего не скажешь! — заметил герцог, а позднее, когда приглашение было с благодарностью принято и бравый старшина императорской гвардии отвез ответ в посольство, когда Коннолли ответил на многочисленные вопросы, касающиеся обращения с ножом, вилкой, бокалом и перчатками, и герцогиня побежала в магазин господина Юкумяна за лентой, золотой тесьмой и искусственными пионами себе на платье, — он отправился обратно в казармы, преисполнившись к французам самых теплых чувств и повторяя: — Молодец, старик. Это ведь первый человек, который за все восемь лет, что я здесь, удосужился позвать в гости мою Черномазую. А моя-то обрадовалась! Вся трясется от счастья, разрази ее гром!
С приближением обеда Черномазая окончательно потеряла покой и так надоела супругу бесконечными вопросами об этикете, что генералу пришлось дать ей увесистую затрещину и запереть на несколько часов в буфет, прежде чем она обрела столь необходимую для дипломатических приемов сдержанность. Обед, на котором присутствовали все сотрудники французского посольства, герцог и герцогиня Укакские, президент железнодорожной компании с женой и дочерьми, а также министр внутренних дел лорд Боз, прошел с огромным успехом. Черномазую, в соответствии с ее титулом, посадили рядом с мсье Байоном, который говорил с ней по-английски, всячески превознося боевые заслуги ее супруга, его влиятельность и благоразумие. Если манеры Черномазой и были в чем-то небезупречны, то поведение министра внутренних дел было поистине вызывающим. Он жаловался, что его плохо кормят, слишком много пил, щипал сидящих по обе стороны от него дам, прикарманил дюжину сигар и приглянувшуюся ему серебряную перечницу, а потом, когда гости перешли в гостиную, рвался танцевать в одиночестве под патефон, пока, наконец, рабы насильно не посадили его в машину и не отвезли к мадам Фифи, о прелестях которой он во всеуслышание распространялся весь вечер, не упустив случая блеснуть анатомическими подробностями, которые, по счастью, большинству собравшихся остались непонятны.
Когда все вина были перепробованы, сладкое шампанское, поданное на десерт, выпито и мужчины остались одни за столом (министр внутренних дел порывался последовать за дамами и был с трудом остановлен), мсье Байон приказал подать бутылку спирта, подсел к генералу, наполнил его бокал и завел с ним весьма нелицеприятный разговор об императоре и нынешнем режиме.
В гостиной тем временем дамы обступили свою новую знакомую, и не прошло и часа, как некоторые из них, в том числе и мадам Байон, опустив титул, стали запросто называть герцогиню Черномазой. Они приглашали ее в гости, звали посмотреть их сад и познакомиться с их детьми, предлагали научить играть в теннис и в пикет, порекомендовали ей армянского портного и индийскую гадалку, вызвались дать выкройки своих пижам, всерьез уговаривали предохраняться, а главное — пригласили войти в специальную комиссию по подготовке к празднику противозачаточных средств. Иными словами, чета Коннолли в тот вечер совершенно офранцузилась.
Спустя десять дней в Дебра-Дову привезли сапоги; соблюсти необходимые формальности ничего не стоило, поскольку соответствующие службы находились теперь под контролем Министерства модернизации. Господин Юкумян сам составил заявление на собственное имя от Министерства обороны; он же написал бумагу из Министерства обороны в отдел по снабжению, заверил ее в казначействе, поставил на ней вторую подпись, выписал чек на свое имя и, заручившись поддержкой акцизного и таможенного управления, добился скидки на пошлину под предлогом того, что ввозимый товар является «государственным заказом». Вся процедура заняла от силы десять минут. А уже через несколько часов тысячу пар сапог свалили на площади перед казармами, где их тут же разобрали солдаты, которые весь день рассматривали сапоги с неподдельным, хотя и настороженным интересом.
В тот же вечер в честь доставки сапог был устроен праздник. На огне дымились солдатские котелки, туземцы отбивали руками нескончаемую барабанную дробь, в незабываемом ритме шаркали по земле голые ступни, тысячи темнокожих что-то напевали и раскачивались, сидя на корточках и сверкая в темноте зубами.
Когда Коннолли возвращался в казармы после обеда во французском посольстве, праздник еще продолжался.
— Какого черта они сегодня веселятся? — спросил он часового. — Разве сегодня какой-то праздник?
— Да, сегодня большой день, ваше превосходительство, — ответил часовой. — Очень большой день. День сапог.
Когда Бэзил, далеко за полночь, сидел у себя в кабинете и сочинял уголовный кодекс, до него донеслось пение.
— Что там в казармах? — спросил он слугу.
— Сапоги.
— Нравятся?
— Еще как.
«То-то Конноли разозлится», — подумал он и на следующий день, повстречав у входа во дворец генерала, не удержался и сказал:
— Вот видите, Коннолли, сапоги пришлись вашим людям по вкусу.
— Не то слово.
— Надеюсь, пока никто не охромел?
— Нет, никто не охромел, — отозвался генерал и, перегнувшись в седле, с ласковой улыбкой добавил: — А вот брюхо у некоторых разболелось. Я как раз собираюсь написать докладную в отдел по снабжению. Там ведь, кажется, наш друг Юкумян сидит? Понимаешь, мой адъютант повел себя как последний дурак: он по неопытности решил, что сапоги — это продовольственный паек. Вчера вечером мои ребята сожрали всю партию без остатка.
В горле першит от пыли, на ветру шелестят листья эвкалиптов. Пруденс сидит у окна и пишет «Панораму жизни». За окном раскинулась высохшая лужайка для крокета: между воротцами видна примятая порыжевшая трава, сзади, на клумбах — несколько увядших стеблей. Пруденс рисовала на полях какие-то каракули и думала о любви.
Стояла — как всегда перед сезоном дождей — засуха, когда скот приходилось пасти далеко в горах, за многие мили от обычных пастбищ, а пастухи, отталкивая друг друга, жадно приникали к заросшим кустарником лужицам питьевой воды; когда в город в поисках воды заходили львы, которые степенно шли по улицам под визг перепуганной детворы; когда, по выражению леди Кортни, «на цветочный бордюр было страшно смотреть».
«Просто поразительно, насколько дух человека не соответствует состоянию природы! — выводила Пруденс своим размашистым школьным почерком. — Когда земля пробуждается от сна, когда бегут ручьи, лопаются почки, когда спариваются птицы и резвятся ягнята — тогда мысли человека заняты спортом и садоводством, живописью и домашним театром. Зато теперь, в сезон засухи, когда кажется, что природа навечно похоронена под холодной землей, — только и думаешь о любви». Она покусала перо и, перечитав написанное, исправила «холодную землю» на «раскаленную почву». «Что-то тут не то», — подумала она и пошла к леди Кортни, которая, с лейкой в руке, насупившись, разглядывала увядший розовый куст.
— Мам, как скоро у птиц рождаются детеныши?
— Не детеныши, а птенцы, — поправила ее мать и пошла поливать поникшую от жары азалию.
— Надоела мне эта «Панорама жизни», — сказала, вернувшись к себе, Пруденс и набросала на полях мужской профиль, который, судя по тяжелому подбородку и растрепанным волосам, принадлежал не Уильяму, как это было еще полтора месяца назад, а Бэзилу Силу. «Как же нужно хотеть мужчину, подумалось ей, — чтобы заниматься любовью с Уильямом!»
— Завтракать! — раздался под окном голос матери. — Я, как обычно, немного опоздаю. Иди, развлеки отца.
Но когда леди Кортни через несколько минут вошла в столовую, муж, дочь и Уильям хранили гнетущее молчание.
— Опять консервированная спаржа, — вздохнул сэр Самсон. — И письмо от епископа.