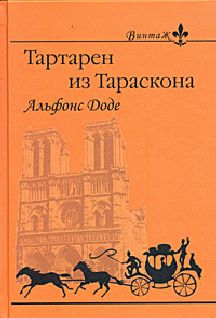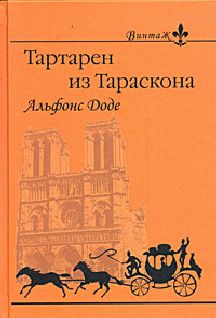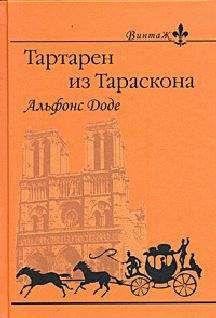А проводники в это время думали, что такого альпиниста они не запомнят.
Все трое начали взбираться на громадную, вышиной от шестисот до восьмисот метров отвесную стену, в которой надо было вырубать ступеньку за ступенькой, а это занятие отнимало много времени. Под лучами яркого солнца все вокруг сверкало нестерпимою для глаз белизною, а между тем очки тарасконца остались на дне пропасти и от солнца и яркого света силы начали ему изменять. Вскоре Тартарен почувствовал страшную слабость — это был приступ горной болезни, а последствия и морской и горной болезни совершенно одинаковы. Спина у него отнялась, голова кружилась, ноги подкашивались и заплетались, так что проводники вынуждены были подхватить его под руки, как накануне, и, все время поддерживая, в конце концов они втащили его на самый верх ледяной стены. До вершины Юнгфрау оставалось теперь каких-нибудь сто метров, но хотя снег стал твердым, упругим и идти было легче, все же этот последний переход занял массу времени, оттого что П.К.А. чувствовал себя все хуже и изнемогал от усталости.
Внезапно проводники отпустили его и, махая шляпами, начали восторженно «йоделировать». Поднялись! Эта точка в девственной пустыне, этот белый, слегка округленный гребень — вот она, их цель, а для доброго Тартарена это конец сомнамбулического столбняка, в котором он пребывал уже целый час.
— Шейдек! Шейдек! — кричали проводники, показывая вниз, где на зеленеющем плоскогорье, далеко-далеко, выступал из тумана отель «Прелестный вид», казавшийся отсюда не более игральной кости.
На пространстве, отделявшем их от отеля, развертывалась дивная панорама: ряд поднимавшихся уступами снеговых полей, золотых, оранжевых под лучами солнца или же налитых густою холодною синевою, нагромождение льдов самого причудливого строения — в виде башен, стрел, игол, ребер, гигантских горбов, как будто там, внизу, покоился давно исчезнувший с лица земли мастодонт или же мегатерий. Лучи всех цветов радуги играли, сходились на поверхности обширных ледников, низвергавших свои недвижные водопады, куда сливались мелкие застывшие потоки, верхний слой которых, гладкий, ослепительно сверкавший, мало-помалу таял на солнце. Но на большой высоте яркий блеск смягчался, здесь мерцал тусклый и холодный свет, и от этого света, от тишины и безлюдья необозримой белой пустыни с ее таинственными складками Тартарена бросило в дрожь.
Над отелем взвился дымок, донеслись глухие выстрелы. Оттуда увидели наших альпинистов и в их честь стали палить из пушки. Мысль, что на него смотрят, что все эти мисс, знатные рисолюбы и черносливцы навели на него бинокли, напомнила Тартарену о его великой миссии. О знамя Тараскона! Тартарен выхватил тебя из рук проводника и несколько раз помахал тобою! Затем он, не выпуская из рук знамени, воткнул в снег свой ледоруб и с величественным видом сел на него лицом к публике. Он находился между солнцем и поднимавшимся сзади туманом, и тут, вследствие преломления световых лучей (явление частое на вершинах гор), на небе вырисовался исполинский Тартарен, коренастый, широкоплечий, с бородой, выбившейся из-под шлема, похожий на одного из легендарных скандинавских богов, сидящих на облаках.
XI
Назад, в Тараскон! Женевское озеро. Тартарен предлагает осмотреть темницу Бонивара. Краткий разговор среди роз. Вся компания под замком. Злосчастный Бонивар. Где нашлась авиньонская веревка
После восхождения у Тартарена опух и облупился нос, кожа на щеках потрескалась. Пять дней он просидел безвыходно в своем номере в отеле «Прелестный вид». Пять дней подряд он ставил себе компрессы и разгонял липкую, пресную тоску этих дней игрою в крестики с депутатами или же диктовал им пространный, подробный, обстоятельный отчет о своем путешествии для прочтения на заседании Клуба альпинцев и для напечатания в «Форуме». Когда же общее состояние разбитости прошло и на благородном лице П.К.А., все еще сохранявшем цвет этрусской вазы, осталось лишь несколько волдырей, струпьев и царапин, депутация во главе с президентом отправилась обратно в Тараскон через Женеву.
Мы не станем описывать их дорожные приключения, то смятение, какое вызывала компания южан в тесных вагонах, на пароходах и за табльдотами своим пением, криками, слишком бурною любвеобильностью, своим знаменем и альпенштоками, — дело в том, что со времени восхождения П.К.А. на Юнгфрау все депутаты вооружились палками, а на палках были кругами выжжены подобранные в рифму названия высот, на которые всходили знаменитые альпинисты.
Монтре!
Здесь депутаты, по предложению своего предводителя, решили на день, на два остановиться и осмотреть хваленые берега Лемана, а главное — Шильонский замок с его легендарной темницей, в которой некогда томился великий патриот Бонивар и которую прославили Байрон и Делакруа[51].
По правде сказать, Тартарена не очень интересовал Бонивар — приключение с Вильгельмом Теллем пролило ему свет на швейцарские легенды, — но в Интерлакене он узнал, что Соня уехала в Монтре вместе с братом, которому стало хуже, и это задуманное им паломничество в исторические места было для него только предлогом, чтобы повидаться с девушкой и, кто знает, может быть, уговорить ее уехать с ним в Тараскон.
Спутники его, разумеется, были самым искренним образом убеждены, что они едут почтить память великого женевского гражданина, историю которого им рассказал П.К.А. Более того, пристрастие к театральным жестам внушило им мысль — высадившись в Монтре, развернуть знамя и торжественной процессией под нескончаемые крики: «Да здравствует Бонивар!» — идти в Шильон. Президент постарался умерить их пыл.
— Сначала позавтракаем, а там видно будет… — заметил он.
И они сели в омнибус, принадлежавший пансиону Мюллера и в ряду с другими омнибусами стоявший у плавучей пристани.
— Гляньте-ка: полицейский! Что это он на нас так смотрит? — сказал Паскалон, влезая в омнибус последним из-за знамени, доставлявшего в дороге столько мучений бедному аптекарскому ученику.
Встревожился и Бравида:
— Да, правда… Чего ему от нас нужно? Что он на нас так уставился?..
— Он меня узнал, вот и все, — скромно заметил Тартарен и издали улыбнулся ваадскому полицейскому[52] в длинном синем плаще, долго смотревшему вслед омнибусу, который катился меж прибрежных тополей.
В Монтре был базарный день. Вдоль озера тянулись ряды со всех сторон открытых лавчонок, торговавших фруктами, зеленью, дешевыми кружевами, цепочками, бляшками, застежками — всеми этими блестящими, точно вылепленными из снега или выточенными изо льда безделушками, которые навешивают на себя швейцарки. И тут же, рядом, — сутолока маленькой гавани: беспрестанно сновали взад и вперед ярко окрашенные прогулочные лодки, с больших парусных бригантин выгружали мешки и бочки, слышались звонки и сиплые гудки пакетботов, на набережной возле кафе и пивных, возле лавок цветочниц и старьевщиков толкался народ. Все бы это залить солнечным светом — и можно было бы подумать, что это какая-нибудь средиземноморская гавань, между Ментоной и Бордигерой. Но солнца не было, и наши путешественники рассматривали эту красивую местность сквозь облако тумана, который поднимался от голубого озера по ступенькам лестниц, карабкался вверх по мощеным улицам, а на вершине горы, над несколькими ярусами домов, сливался с черными тучами, что клубились среди темной зелени и готовы были вот-вот пролиться дождем.
— А, черт! Не люблю я озер!.. — ворчал Спиридион Экскурбаньес, протирая окно, чтобы посмотреть на дальние ледники и на полотнища белого пара, застилавшего горизонт впереди.
— И я не люблю, — вздохнул Паскалон. — Мгла, стоячая вода… просто хоть плачь.
Бравида тоже выразил неудовольствие: он боялся схватить воспаление седалищного нерва.
Тартарен резко их оборвал. Неужели им не хочется рассказать дома, что они видели темницу Бонивара и начертали свои имена на исторических стенах рядом с именами Руссо, Байрона, Виктора Гюго, Жорж Санд, Эжена Сю? Но, не закончив своей тирады, президент внезапно смолк и изменился в лице… Перед ним мелькнула знакомая шапочка, из-под которой выбивались белокурые локоны… Даже не остановив омнибуса, замедлившего ход на подъеме, он крикнул изумленным альпинцам: «Увидимся в отеле!..» — и спрыгнул на мостовую.
— Соня!.. Соня!..
Он боялся, что не догонит ее, — так она спешила, такой быстрой тенью скользил по стенам домов стройный ее силуэт.
Соня обернулась, остановилась.
— А, это вы!.. — сказала она и, поздоровавшись, пошла вперед.
Тартарен, отдуваясь, пошел с ней рядом и начал извиняться за свое вынужденное исчезновение: приехали друзья, надо было во что бы то ни стало совершить восхождение… Следы этого путешествия у него еще до сих пор на лице… Она слушала молча, не оборачиваясь к нему, все уторапливая шаг и глядя прямо перед собой неподвижным, ушедшим внутрь взглядом. Рассматривая ее в профиль, Тартарен нашел, что она побледнела, черты уже утратили детскую наивность и мягкость, — напротив, в них проступило то жесткое, решительное, что раньше давало себя знать только в голосе: ее непреклонная воля; от прежней Сони остались лишь девичья стройность и золотистые локоны.