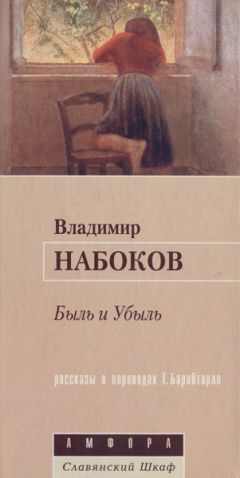Поодаль Шрам, тыкая в воздух альпенштоком предводителя, обращал Бог весть на что внимание экскурсантов, расположившихся кругом на траве в любительских позах, а предводитель сидел на пне, задом к озеру, и закусывал. Потихоньку, прячась за собственную спину, Василий Иванович пошел берегом и вышел к постоялому двору, где, прижимаясь к земле, смеясь, истово бия хвостом, его приветствовала молодая еще собака. Он вошел с нею в дом, пегий, двухэтажный, с прищуренным окном под выпуклым черепичным веком и нашел хозяина, рослого старика, смутно инвалидной внешности, столь плохо и мягко изъяснявшегося по-немецки, что Василий Иванович перешел на русскую речь, но тот понимал как сквозь сон и продолжал на языке своего быта, своей семьи. Наверху была комната для приезжих.
— Знаете, я сниму ее на всю жизнь, — будто бы сказал Василий Иванович, как только в нее вошел. В ней ничего не было особенного, — напротив, это была самая дюжинная комнатка, с красным полом, с ромашками, намалеванными на белых стенах, и небольшим зеркалом, наполовину полным ромашкового настоя, — но из окошка было ясно видно озеро с облаком и башней, в неподвижном и совершенном сочетании счастья. Не рассуждая, не вникая ни во что, лишь беспрекословно отдаваясь влечению, правда которого заключалась в его же силе, никогда еще неиспытанной, Василий Иванович в одну солнечную секунду понял, что здесь, в этой комнатке с прелестным до слез видом в окне, наконец-то так пойдет жизнь, как он всегда этого желал. Как именно пойдет, что именно здесь случится, он этого не знал, конечно, но все кругом было помощью, обещанием и отрадой, так что не могло быть никакого сомнения в том, что он должен тут поселиться. Мигом он сообразил, как это исполнить, как сделать, чтобы в Берлин не возвращаться более, как выписать сюда свое небольшое имущество — книги, синий костюм, ее фотографию. Все выходило так просто! У меня он зарабатывал достаточно на малую русскую жизнь.
— Друзья мои, — крикнул он, прибежав снова вниз на прибрежную полянку. — Друзья мои, прощайте! Навсегда остаюсь вон в том доме. Нам с вами больше не по пути. Я дальше не еду. Никуда не еду. Прощайте!
— То есть как это? — странным голосом проговорил предводитель, выдержав небольшую паузу, в течение которой медленно линяла улыбка на губах у Василия Ивановича, между тем как сидевшие на траве привстали и каменными глазами смотрели на него.
— А что? — пролепетал он. — Я здесь решил…
— Молчать! — вдруг со страшной силой заорал почтовый чиновник. — Опомнись, пьяная свинья!
— Постойте, господа, — сказал предводитель, — одну минуточку, — и, облизнувшись, он обратился к Василию Ивановичу:
— Вы должно быть, действительно, подвыпили, — сказал он спокойно. — Или сошли с ума. Вы совершаете с нами увеселительную поездку. Завтра по указанному маршруту — посмотрите у себя на билете — мы все возвращаемся в Берлин. Речи не может быть о том, чтобы кто-либо из нас — в данном случае вы — отказался продолжать совместный путь. Мы сегодня пели одну песню, — вспомните, что там было сказано. Теперь довольно! Собирайтесь, дети, мы идем дальше.
— Нас ждет пиво в Эвальде, — ласково сказал Шрам. — Пять часов поездом. Прогулки. Охотничий павильон, Угольные копи. Масса интересного.
— Я буду жаловаться, — завопил Василий Иванович. — Отдайте мне мой мешок. Я вправе остаться где желаю. Да ведь это какое-то приглашение на казнь, — будто добавил он, когда его подхватили под руки.
— Если нужно, мы вас понесем, — сказал предводитель, — но это вряд ли будет вам приятно. Я отвечаю за каждого из вас и каждого из вас доставлю назад живым или мертвым.
Увлекаемый, как в дикой сказке по лесной дороге, зажатый, скрученный, Василий Иванович не мог даже обернуться и только чувствовал, как сияние за спиной удаляется, дробимое деревьями, и вот уже нет его, и кругом чернеет бездейственно ропщущая чаща. Как только сели в вагон, и поезд двинулся, его начали избивать, — били долго и довольно изощренно. Придумали, между прочим, буравить ему штопором ладонь, потом ступню. Почтовый чиновник, побывавший в России, соорудил из палки и ремня кнут, которым стал действовать, как чорт, ловко. Молодчина! Остальные мужчины больше полагались на свои железные каблуки, а женщины пробавлялись щипками да пощечинами. Было превесело.
По возвращении в Берлин он побывал у меня. Очень изменился. Тихо сел, положив на колени руки. Рассказывал. Повторял без конца, что принужден отказаться от должности, умолял отпустить, говорил, что больше не может, что сил больше нет быть человеком. Я его отпустил, разумеется.
Мариенбад, 1937 г.
У меня есть один малопочтенный тезка, с тем же именем и той же фамильей, человек, которого сам я в глаза не видел, но пошлую особу которого я мог вывести из его случайных вторжений в замок моей жизни. Путаница эта началась в Праге, где я жил в середине двадцатых годов. Я получил там письмо из прокатной библиотечки, состоявшей, по-видимому, при какой-то белогвардейской организации, которая, как и я сам, покинула в свое время Россию. Письмо в раздраженном тоне требовало, чтобы я незамедлительно возвратил экземпляр «Протоколов Сионских Мудрецов». Книжка эта (которой в былое время мечтательно зачитывался император) была подложным меморандумом, сочиненным полуграмотным мошенником по заказу тайной полиции; ее единственной целью было подстрекательство к погромам. Библиотекарь, подписавшийся Синепузовым, уверял, что я держу этот, по его выражению, «популярный и ценный труд» уже больше года. Он указывал на предыдущие напоминания, посланные мне в Белград, Берлин и Брюссель, куда, очевидно, заносило моего однофамильца.
Я представлял себе этого субъекта молодым, очень белым эмигрантом безусловно черносотенной разновидности, образование которого было прервано революцией, и вот он теперь наверстывал упущенное традиционным способом. Он, видимо, много скитался; я тоже, — и на том наше сходство и кончается. Одна русская дама в Страсбурге спросила меня, не приходится ли мне братом некто женившийся на ее племяннице в Льеже. Как-то раз весной, в Ницце, в мою гостиницу зашла девушка с безстрастным лицом и длинными серьгами, сказала, что хочет меня повидать, а увидев, тотчас извинилась и ушла. В Париже я получил телеграмму, в которой нервно сообщалось: «Ne viens pas Alphonse de retour soupçonne sois prudent je t'adore angoissee»[58], и, признаюсь, я испытал род мрачного удовольствия, вообразив как мой повеса-двойник, неотвратимо врывается с букетом цветов в апартамент и застает там Альфонса с женой. Несколько лет спустя я читал лекции в Цюрихе, где меня неожиданно арестовали по обвинению в том, что я, дескать, расколотил три зеркала в ресторане — прямо триптих какой-то, на котором изображен мой тезка сначала пьяным (зеркало первое), потом очень пьяным (второе) и, наконец, буйно пьяным (третье). Кончилось тем, что в 1938-м году французский консул без дальних слов отказался поставить печать на моем потрепанном, зеленоватом нансеновском паспорте, потому что, по его словам, я уже однажды въехал в страну без разрешения. В пухлом досье, которое было затем извлечено, я успел подсмотреть физиономию своего однофамильца. Этот прохвост носил коротко подстриженные усы и волосы бобриком.
Когда вскоре после того я перебрался в Соединенные Штаты и осел в Бостоне, я был уверен, что мне удалось отделаться от этой нелепой тени. Затем — а именно, в прошлом месяце, — у меня звонит телефон. Громкий, светлый женский голос назвался мадам Сивиллой Галль, близкой приятельницей мадам Шарп, которая в письме просила ее связаться со мной. Я был знаком с одной мадам Шарп и мне не пришло в голову, что речь могла идти о какой-то другой Шарп и что меня самого принимают за кого-то другого. Медоточивая мадам Галль сказала, что у нее на квартире собирается небольшая компания в пятницу вечером — так не могу ли я придти — судя по тому, что она обо мне слышала, мне будет весьма и весьма интересно. Хоть я и не терплю никаких сходок, я решил принять приглашение, вообразив, что отказом могу как-нибудь огорчить мадам Шарп, милую, коротко стриженую, пожилую даму в буро-малиновых штанах, с которой я познакомился на Кейп-Коде, где она жила на даче с какой-то женщиной помоложе; обе дамы были посредственными художницами левого направления и независимых средств, вполне любезные.
Вследствие неприятности, не имеющей отношения к предмету настоящего повествования, я явился к дому, где жила мадам Галль, значительно позже, чем предполагал. Очень древний лифтер, удивительно похожий на Рихарда Вагнера, угрюмо отвез меня наверх, и неулыбчивая горничная мадам Галль, у которой длинные руки свисали по бокам, ждала покуда я сниму пальто и галоши в передней. Главным украшением тут была одна из тех орнаментальных и, должно быть, чрезвычайно древних китайских ваз — в данном случае, высокая, слащавого цвета махина — которые неизменно приводят меня в ужасно подавленное расположение духа.