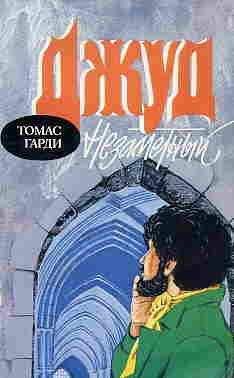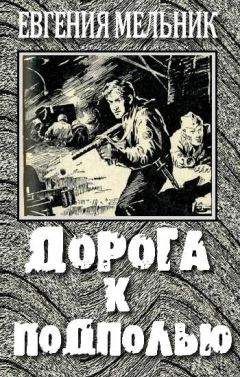Был и другой путь, единственно реальный для таких, как он, и он состоял в том, чтобы, если можно так выразиться, проехать в науку на деньгах; вся трудность тут была чисто материального свойства. Наведя справки, он прикинул размеры этого материального препятствия и, к своему отчаянию, убедился, что если даже судьба улыбнется ему и он сможет откладывать деньги, пройдет пятнадцать лет, прежде чем он получит возможность представить свидетельство главе колледжа и держать вступительные экзамены. Несбыточное дело!
Он понял, как искусно и коварно околдовала его близость города. Попасть туда, жить там, бродить среди церквей и колледжей, проникнуться в genius loci[7] — все это ему, мечтательному юноше, казалось чем-то чрезвычайно важным и прекрасным, когда город манил его сиянием на горизонте. "Дайте мне только попасть туда, — сказал он с самодовольством Крузо, мастерящего свою большую лодку, — остальное будет делом времени и энергии". Куда лучше во всех отношениях — было бы никогда не видеть и не слышать про это обманное место, а уехать в какой-нибудь оживленный торговый город с единственной целью зарабатывать деньги своей смекалкой и там уж строить более реальные планы. Во всяком случае, одно было ясно: вся его затея при трезвом рассмотрении лопнула, как мыльный пузырь. Он оглянулся на вереницу прошедших лет и мысленно согласился с Гейне:
Где юность мечет вдохновенный взгляд,
Я вижу пестрый шутовской наряд,
К счастью, ему не пришлось омрачить этим разочарованием жизнь его милой Сью, и он не стал посвящать ее в свою неудачу. В дальнейшем он постарается не огорчать ее неприятными подробностями своего прозрения, четко обозначившего пределы его возможностей. Пусть ей будет известна лишь малая часть той жалкой борьбы, в которую он вступил безоружный, нищий и наивный.
Он навсегда запомнил тот день, когда пробудился от грез. Не зная, куда девать себя, он поднялся в восьмиугольную комнату в фонаре причудливого здания театра, выстроенного в центре этого странного и причудливого города. Со всех сторон были окна, из которых открывался вид на Кристминстер и его здания. Джуд скользил взглядом по панораме города задумчиво, мрачно, но неотступно. Все эти здания и кварталы с их привилегиями не для него. С далекой крыши большой библиотеки, в которую ему некогда было ходить, взгляд его переходил на шпили, фронтоны колледжей, улицы, часовни, сады и квадратные дворы, составлявшие ансамбль этой непревзойденной панорамы. Он видел, что будущее его не здесь, а с простыми тружениками из убогого предместья, где ютился он сам и которое посетители и панегиристы Кристминстера даже не признавали частью города, однако, не будь обитателей предместья, усердные книжники не смогли бы предаваться своим занятиям, а возвышенные мыслители — существовать.
Он перевел взгляд с города на окрестности, туда, где деревья скрывали от него ту, чье присутствие поддерживало вначале бодрость его духа и чья потеря была для него пыткой, сводящей с ума. Если бы не этот удар, он бы еще смирился с судьбой. Он с легкостью отказался бы от своих честолюбивых замыслов, будь Сью рядом с ним. Без нее реакция после длительного напряжения, на какое он сам себя обрек, несомненно, должна была вызвать роковые последствия. Должно быть, и Филотсон прошел через такое же духовное разочарование, какое постигло Джуда. Однако школьный учитель был уже вознагражден, найдя утешение в милой Сью, тогда как для Джуда утешения не было.
Спустившись на улицу, он побрел куда глаза глядят и, оказавшись возле трактира, вошел в него. Выпил один за другим несколько стаканов пива, а когда вышел, уже настала ночь. При мерцающем свете фонарей он поплелся домой ужинать и только уселся за стол, как квартирная хозяйка принесла письмо, только что полученное на его имя. Она положила письмо на стол, словно сознавая важность его для Джуда; взглянув на конверт, Джуд увидел рельефную печать одного из колледжей, главам который он писал.
— Наконец-то хоть одно! — воскликнул он.
Письмо было короткое и не совсем такое, какое он ожидал, хотя и было, написано рукой самого ректора. Оно гласило:
"М-ру Дж. Фаули, каменщику.
Библиолл-колледж.
Сэр, я с интересом прочел Ваше письмо по Вашему собственному признанию, Вы — рабочий, поэтому смею думать, что Вы добьетесь гораздо больших успехов, оставаясь верным своей среде и своей профессии, нежели избрав какой-либо иной путь. Так и советую Вам поступить.
С уважением Т. Тетьюфиней".
Этот чудовищно разумный совет взбесил Джуда. Все это он знал и раньше. И знал, что это верно, И все-таки это выглядело как грубая пощечина после десяти лет тяжелого труда и так глубоко поразило его в ту минуту, что он порывисто вскочил из-за стола и вместо того, чтобы засесть за чтение, как обычно, спустился вниз и выскочил на улицу. Зайдя в трактир, он один за другим опрокинул в себя три стакана спиртного, а потом двинулся наугад по улицам и так дошел до площади в центре города под названием Перекресток Четырех Дорог. Тут он, все еще не в себе, бессмысленно уставился на группы прохожих, потом очнулся и заговорил с полисменом, стоявшим на посту.
Полисмен зевнул, потянулся, приподнялся на носках и, поглядев с усмешкой на Джуда, спросил:
— Упились, молодой человек?
— Нет еще, только начал, — ответил Джуд, не смутившись.
Несмотря на выпитое, голова у него была ясная. Он уже почти не слушал, что говорил ему еще полисмен, так как задумался о людях, некогда останавливавшихся на этом Перекрестке, которые, подобно ему, пытались пробиться в жизни и о которых теперь никто уже не помнит. История этого места была куда богаче истории старейшего из колледжей города. Перекресток буквально кишел тенями людей, поколение за поколением сходившихся здесь для участия в трагедии, комедии или фарсе, какие разыгрывались в самой жизни. Люди собирались на Перекрестке, чтобы поговорить о Наполеоне, о независимости Америки, о казни короля Карла, о сожжении мучеников, о крестовых походах, о победе норманнов, а быть может, и о высадке Цезаря. Представители двух полов встречались здесь, чтобы любить, ненавидеть, соединять свои судьбы и расставаться; здесь они ждали, страдали, торжествовали друг над другом, проклинали друг друга в минуту ревности, благословляли в минуту прощения.
Он начал понимать, что жизнь города представляет собою куда более волнующую, пеструю и богатую книгу человеческих судеб, чем жизнь колледжей. Эти мужчины и женщины, которых он видел своим мысленным взором, и были подлинным Кристминстером, хотя они мало что знали о Христе и соборе[8]. Такова ирония жизни! А постоянно меняющееся население из профессоров и студентов, которые знали и о Христе и о соборе, кристминстерцами, собственно, и не было.
Он взглянул на часы и, продолжая размышлять в том же духе, дошел так до увеселительного заведения, где давался концерт-променад. Войдя, Джуд увидел зал, битком набитый молодыми приказчиками и продавщицами, солдатами, подмастерьями, одиннадцатилетними мальчишками с сигаретами во рту и женщинами легкого поведения из почтенного разряда тех, что занимаются своим искусством исключительно из любви к нему. Вот где была жизнь подлинного Кристминстера! Играл оркестр, публика разгуливала в толчее по залу, а на эстраде один за другим сменялись певцы, исполнявшие веселые песенки.
Однако над ним словно витал дух Сью, не позволяя ему любезничать и пить с бойкими девицами, которые заигрывали с ним, желая урвать от жизни немного радости. В десять он ушел; он направился домой окольным путем, чтобы пройти мимо ворот колледжа, глава которого ответил ему. Ворота были заперты, и неожиданно для себя самого Джуд достал из кармана кусок мела, который по роду занятий всегда носил с собой, и написал на стене:
"И у меня есть сердце, как у вас; не ниже я вас; и кто не знает того же?" (Иов, XII, 3).
Дав выход своему презрению, он облегчил душу и на другое утро сам посмеялся над своей гордыней. Но невеселый это был смех. Он перечитал письмо ректора, и мудрость строк, вызвавшая у него сначала ярость, повергла его в тоску и уныние. Надо же было быть таким глупцом!
Потеряв цель в жизни — и в духовной и в личной, он никак не мог взяться за работу. Едва он смирялся с тем, что ему не суждено стать студентом, как покой его нарушали размышления о его безнадежной любви к Сью. Мысль о том, что единственную родственную душу, которая повстречалась на его пути, он потерял из-за своей женитьбы, преследовала его с такой мучительной неотступностью, что, не в силах больше ее выносить, он снова кинулся искать утешения в жизни подлинного Кристминстера. На этот раз он нашел его в мрачной, с низким потолком таверне, которая была широко известна среди местных знатоков и в лучшие времена привлекла бы его лишь своей необычностью. Он просидел здесь почти весь день, убеждая себя, что он человек порочный и ждать от него больше нечего.