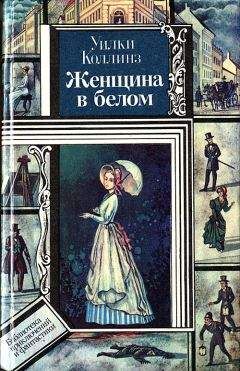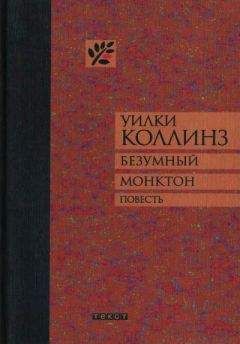— Вы играете в вист, мистер Хартрайт? — спросила мисс Голкомб, значительно посмотрев на мой стул.
Я понял ее намек, я знал, что она права. Я сейчас же встал, чтобы подойти к карточному столу. Когда я отошел от рояля, мисс Фэрли перевернула нотную страницу и снова прикоснулась к клавишам, уже более уверенной рукой.
— Все-таки я сыграю это, — сказала она с каким-то восторгом, — я сыграю это в последний раз!
— Прошу вас, миссис Вэзи, — сказала мисс Голкомб, — мистеру Гилмору и мне надоело играть в экарте, — будьте партнером мистера Хартрайта в висте.
Старый адвокат насмешливо улыбнулся. Он выигрывал и как раз в это время предъявил короля. Внезапную перемену карточной игры он, очевидно, приписал тому, что дама не желала проигрывать.
В течение остального вечера мисс Фэрли не проронила ни слова, не бросила на меня ни единого взгляда. Она сидела за роялем, а я за карточным столом. Она играла непрерывно — играла так, будто искала в музыке спасения от самой себя. Временами пальцы ее касались клавиш с томительной любовью, с мягкой, замирающей нежностью, невыразимо прекрасной и печальной для слуха, временами они изменяли ей или торопились по клавишам механически, как если бы играть было им в тягость. И все же, как ни менялось то выражение, которое они передавали в музыке, они повиновались ей, не ослабевая ни на минуту. Она поднялась из-за рояля, только когда мы все встали, чтобы пожелать друг другу спокойной ночи.
Миссис Вэзи была ближе всех к двери — и первая пожала мне руку.
— Я больше не увижу вас, мистер Хартрайт, — сказала старая дама. — Я искренне сожалею, что вы уезжаете. Вы всегда были очень добры и внимательны ко мне, а я, как старая женщина, ценю доброту и внимание. Желаю вам всего наилучшего, сэр, желаю вам на прощанье счастья.
Следующим был мистер Гилмор.
— Надеюсь, мы будем иметь возможность продолжить наше знакомство в будущем, мистер Хартрайт. Вам понятно, что то небольшое дело находится в верных руках? Да, да, конечно. Бог мой, как холодно! Не буду задерживать вас у дверей. Счастливого пути, дорогой сэр, бон вояж, как говорят французы.
Подошла мисс Голкомб.
— Завтра утром, в половине восьмого, — а потом прибавила шепотом: — Я видела и слышала больше, чем вы думаете. Ваше поведение сегодня вечером сделало меня вашим другом на всю жизнь.
Мисс Фэрли была последней. Я боялся, что взгляд мой выдаст меня, и старался не смотреть на нее, когда взял ее руку в свою, думая о завтрашнем дне.
— Я уеду рано утром, — сказал я, — уеду, мисс Фэрли, прежде, чем вы…
— Нет, нет, — быстро перебила она, — не прежде, чем я встану. Я спущусь к завтраку с Мэриан. Я не настолько неблагодарна, чтобы забыть последние три месяца…
Голос изменил ей, рука ее тихо пожала мою и сразу отпустила. Не успел я сказать «доброй ночи», как она уже ушла.
Я быстро приближаюсь к концу моего рассказа, приближаюсь так же неизбежно, как наступил рассвет моего последнего утра в Лиммеридже.
Не было еще и половины восьмого, когда я спустился вниз, но обе они уже сидели за столом и ждали меня. В холоде, при тусклом освещении, в унылом утреннем безмолвии дома мы все трое сели за стол и старались есть, старались говорить. Но наши усилия были тщетны, и я встал, чтобы положить этому конец.
Когда я протянул руку и мисс Голкомб, стоявшая ближе ко мне, взяла ее, мисс Фэрли отвернулась и поспешно вышла из комнаты.
— Так лучше, — сказала мисс Голкомб, когда дверь закрылась. — Так лучше и для нее и для вас.
С минуту я не мог говорить. Тяжко было потерять ее без единого слова, без единого взгляда на прощанье. Я справился со своим волнением и постарался попрощаться с мисс Голкомб в подобающих выражениях, но слова, которые теснились во мне, свелись к единственной фразе: «Заслуживаю ли я, чтобы вы написали мне?» — вот было все, что я мог сказать.
— Вы по достоинству заслужили все, что я хотела бы для вас сделать, пока мы оба живы. Чем бы все это ни кончилось, вы будете об этом знать.
— И если когда-нибудь я смогу чем-то помочь вам, пусть через много лет, после того как изгладится память о моей дерзости и моем безрассудстве…
Я был не в силах продолжать. Голос мой упал, глаза были влажны…
Она схватила мои руки, пожала их крепко, уверенно, по-мужски, черные глаза ее сверкнули, щеки запылали, энергичное лицо ее просияло и сделалось прекрасным, озарившись внутренним светом великодушного сочувствия.
— Я полагаюсь на вас, и, если мы будем нуждаться в помощи, я позову вас как моего друга и ее друга, как моего и ее брата. — Она остановилась, подошла ближе — смелая, благородная женщина, по-сестрински дотронулась губами до моего лба и назвала меня по имени. — Да благославит вас бог, Уолтер! — сказала она. — Подождите здесь и успокойтесь. Для вашей же пользы мне лучше уйти. Я посмотрю с балкона, как вы будете уезжать.
Она удалилась. Я подошел к окну, за которым не было ничего, кроме унылой осенней пустоты. Я должен был взять себя в руки, прежде чем навсегда покинуть эту комнату.
Не прошло и минуты, как вдруг дверь тихо отворилась, и я услышал шелест женского платья. Сердце мое забилось, я обернулся. Из глубины комнаты ко мне шла мисс Фэрли. Когда наши взгляды встретились и она поняла, что мы одни, она с минуту постояла в нерешительности. Потом с мужеством, которое женщины так редко проявляют в малых испытаниях и так часто — в больших, она подошла ко мне, бледная и странно тихая, пряча что-то в складках своего платья.
— Я пошла в гостиную, — сказала она, — чтобы взять это. Пусть это напомнит вам о пребывании у нас и о друзьях, которых вы здесь оставляете. Вы говорили мне, что я делаю успехи, и я подумала, что вам…
Она отвернула лицо и протянула мне свой рисунок — маленький летний домик, где мы встретились в первый раз. Рисунок дрожал в ее руке и задрожал в моей, когда я взял его.
Я боялся выдать свое чувство и только ответил:
— Я никогда с ним не расстанусь. Самым дорогим моим сокровищем на всю жизнь будет этот рисунок. Я благодарю вас за него, я благодарю вас за то, что вы не дали мне уехать, не попрощавшись с вами.
— О, — сказала она простодушно, — могла ли я не попрощаться с вами после того, как мы провели вместе столько счастливых дней!..
— Эти дни не вернутся никогда, мисс Фэрли, наши дороги в жизни лежат так далеко друг от друга. Но если когда-нибудь настанет время, когда преданность моего сердца и все силы мои смогут дать вам хоть минутное счастье или уберечь вас от минутного горя, вспомните о бедном учителе рисования. Мисс Голкомб обещала позвать меня — вы мне тоже это обещаете?
В ее нежных глазах сквозь слезы тускло мерцала печаль расставания.
— Я обещаю, — проговорила она прерывающимся голосом. — О, не смотрите на меня так! Я обещаю от всего сердца!
Я протянул ей руку:
— У вас много друзей, которые любят вас, мисс Фэрли. И все, кто любит вас, надеются, что вы будете счастливы. Можно ли сказать вам, что и я надеюсь на это?
Слезы градом катились по ее щекам. Одной рукой она оперлась на стол и протянула мне другую. Я взял ее, пожал крепко, голова моя склонилась к ее руке, слезы упали на нее, губы прижались к ней — не с любовью, о нет! — в эту последнюю минуту не с любовью, но с самозабвением отчаяния.
— Ради бога, оставьте меня, — слабо прошептала она.
Эти умоляющие слова открыли мне тайну ее сердца. Я не имел права слышать их, не имел права ответить на них. Во имя ее святой беззащитности эти слова заставляли меня немедленно уйти.
Все было кончено. Я выпустил ее руку из своей. Я ничего не сказал больше. Слезы, мои слезы, скрыли ее от меня, я смахнул их, чтобы взглянуть на нее в последний раз. Она упала в кресло, положила руки на стол и устало опустила на них голову. Последний прощальный взгляд — и дверь за мной закрылась, пучина разлуки разверзлась между нами — образ Лоры Фэрли стал памятью прошлого.
Рассказ продолжает Уинсент Гилмор из Ченсери-Лейн, поверенный семьи Фэрли
I
Я пишу эти строки по просьбе моего друга Уолтера Хартрайта. Их назначение: запечатлеть некоторые события, причинившие серьезный ущерб интересам мисс Фэрли и происшедшие уже после отъезда мистера Хартрайта из Лиммериджа.
Нет нужды упоминать здесь о том, каково мое личное мнение по поводу обнародования этой достопримечательной семейной истории. Часть оной будет рассказана в моем повествовании. Мистер Хартрайт взял на себя ответственность за это обнародование, и, как будет явствовать из обстоятельств, мною описываемых, он вполне заслужил право поступать в данном случае по своему усмотрению. Дабы эта история наиболее правдивым и занимательным образом стала известна читателям, необходимо, чтобы ее рассказывали по ходу дела именно те лица, которые были непосредственно замешаны в происшедших событиях. Вот почему я появляюсь здесь в качестве рассказчика.