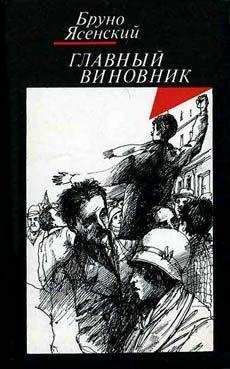– Перебежал ночью с вашей территории на нашу сторону. Патруль поймал его на улице и отсылает обратно.
Вася от восторга даже глаза зажмурил: жид! Убежал, обманув караул!
– Дайте-ка я отведу его к ротмистру.
Камло козыряют и уходят. Вася поручает товарищу остаться на посту. Он поведет беженца.
Худой, высокий еврей, – быть может, годом старше Васи, – молчит, только сгорбился как-то, голову втянул в плечи, как нахохлившаяся птица; беспокойный взгляд так и бегает за Васей, точно такса.
– Марш вперед! Попробуешь бежать – пулю в затылок!
Еврей не пробует бежать. Послушно идет вперед. Только голову втянул еще глубже в плечи, и пара слишком длинных рук, как переломанные крылья, беспомощно болтается по бокам.
А Вася мечтает: сам лично приведет арестованного к ротмистру Соломину. Ротмистр посмотрит, щелкнет хлыстиком по голенищу, скажет: «Сла-авно!» Вася даже грудь выпячивает от горделивой радости. С ротмистром Соломиным – хоть в огонь. Вся молодежь от него без ума. Храбрый офицер. Еще в армии Врангеля бил большевиков. Те, кто знал его, говорят: «Храбр, как черт». А как стреляет! Ласточку на лету бьет. Вася видел вчера собственными глазами: сидел на столике, на террасе кафе Рю-де-ля-Помп, и удирающих евреев, пуская их на пятьсот шагов, хлопал как уток, ни разу не промахнувшись.
Будет потеха! Еще направо, за угол.
Вася видит уже издали. На террасе бистро, напротив ставки, сидит ротмистр Соломин в обществе четырех офицеров. Пьют со вчерашнего вечера. Вася упругим шагом пересекает площадь и задерживается у террасы.
– Ваше благородие, честь имею доложить: привел беженца. Утек вчера ночью, обманув стражу, на ту сторону Сены. Пойман на улице и доставлен к нашим передовым постам.
– Сла-авно! – говорит ротмистр Соломин, поднимая взор, под которым Вася вытягивается в струнку. – Дать его сюда, поближе.
Офицеры чувствуют: будет потеха. Ротмистр – весельчак, умеет позабавиться. С любопытством подсаживаются ближе.
Худой веснушчатый еврей дрожит как лист.
– Ближе, – повторяет ротмистр Соломин. – Отвечать коротко и толком. Какого вероисповедания?
Еврей молчит. К чему говорить? Все равно – крышка.
– Вероисповедания иудейского?
Офицеры, предвкушая удовольствие, разражаются громким смехом.
– Что же это – немой, что ли? Или просто не знает правил вежливости? Спрашиваю: жид?
– Нет…
В ответ долгий взрыв хохота развеселившейся компании.
– Подождите, господа. Что же здесь смешного? – говорит нараспев ротмистр Соломин. – Нос ничего еще не доказывает. Иногда, бывает, мама заглядится. Раз говорит нет, значит – нет.
Офицеры покатываются со смеху, влюбленными глазами глядя на ротмистра Соломина.
– Перекрестись, – говорит с расстановкой ротмистр.
Мальчик судорожно сжатыми пальцами пытается перекреститься. Дрожащая рука не попадает на плечо, ошибается, чертит в воздухе какой-то странный излом.
Новые раскаты хохота приветствуют это движение.
– Не совсем так, – говорит с невозмутимым спокойствием ротмистр Соломин. – Это бывает с непривычки. Еще раз, медленно да точно.
Мальчик чертит рукой более или менее правильный зигзаг.
– Вот сейчас было уже гораздо лучше. Ну что, не говорил я вам? Нос еще ничего не доказывает. Сразу видно – православный. Чтобы больше не сомневаться, спустите-ка ему, хлопцы, штаны.
Мальчик жестом стыдящейся грации зажимает руками около стыдливого места. Вася и еще два нижних чина бросаются расстегивать ему брюки. Мальчик старается вырваться; содранные силой штаны беспомощными бубликами соскакивают на землю под взрыв всеобщего хохота.
– Вот как! – восклицает с притворным возмущением ротмистр Соломин. – Я тебя здесь, можно сказать, собственной грудью защищаю, на слово тебе верю, а ты, брат, лгать? Крест святой некрещеной рукой поганить? От собственной веры отрекаться? Этого, брат, я от тебя не ожидал.
Мальчик судорожно подбирает и застегивает непослушные брюки. Долго не может нащупать нужной пуговицы.
– Пошарьте-ка у него в карманах, хлопцы, – говорит ротмистр Соломин.
Три пары жадных рук проскальзывают за пазуху, выворачивая боковые карманы, отрывают подкладку новенького пиджака и, торжественно вытащив оттуда какую-то тетрадку – советский паспорт, протягивают его ротмистру.
– Да-а-с, – нараспев говорит Соломин. – Так надо было говорить сразу. Попросить: пропуск в Бельвиль. Почему бы нет? Где же это видно – вдруг бежать ночью, да еще паспорт в подкладку зашивать? Нехорошо. Ну, смотри, чтобы это было в последний раз.
Ротмистр Соломин возвращает паспорт.
– Положить это ему, хлопцы, обратно в карман. Ну, а теперь удирай.
Мальчик не понимает, смотрит расширенными от недоумения глазами на ротмистра.
– Беги. Да не попадайся мне больше на глаза.
Еврей делает неуверенный шаг вперед. Останавливается. Смотрит на улыбающиеся лица офицеров, оборачивается и пускается бежать вдоль стены, сначала медленно, нерешительно, потом все быстрее и быстрее. Вот уж он почти на углу…
– Подожди, – кричит ему вслед ротмистр Соломин. Мальчик останавливается, оборачивается испуганно.
– Подожди. Я забыл поставить на твоем паспорте штемпель, – говорит ротмистр Соломин, посылая ему вдогонку пулю из маузера…
Еврей падает навзничь с неуклюже растопыренными руками.
Вася дело знает, ловит на лету. Перевесив винтовку через плечо, он бежит к месту, где лежит мальчик, наклоняется над ним и вытягивает из-за пазухи какую-то вещицу; размахивая ею в воздухе, он бегом возвращается к офицерам.
– Прямо в середину, – кричит он издали, потрясая маленькой красной книжечкой.
Обтрепанный советский паспорт прострелен посередине; вокруг отверстия от пули красным ободком штемпеля засохла кровь.
Офицеры, одобрительно бормоча, передают из рук в руки красную книжечку.
– Ну, пойду спать, – отодвигая стул, пощелкивая хлыстиком по голенищу, говорит ротмистр Соломин. – Советую и вам, господа, сделать то же самое. Через два часа я должен поспеть в Бурбонский дворец. Выспаться тоже ведь когда-нибудь надо. До вечера.
* * *
В удобном одноэтажном особняке, дверь которого открыл ему денщик, царил тенистый полумрак от спущенных штор. Соломин вытянулся на мягком шезлонге и дал стянуть с себя сапоги. Хлопоча вокруг него, денщик на цыпочках принес подушку, потом бесшумно улетучился из комнаты, закрыв за собой дверь.
Соломин медленно погрузился в мягкое блаженство пушистой, как ковер, тишины. Не так давно он начал пользоваться благодетельной атмосферой комфорта, и, попадая в нее, он таял каждый раз, как лепешка сахарина в крепком, довоенном русском чае.
С высоты мягкого, утопающего в коврах шезлонга под молочной луной хрустальной лампы длинные годы мытарств казались ему каким-то скверным немецким фильмом, виденным в третьеразрядном прокуренном кино. История этого фильма простая, банальная, в банальности своей едкая, как махорка. Такие картины демонстрируются десятками в загородных киношках, выжимая слезы из глаз сентиментальных швей.
Сын штаб-офицера. Материнское имение под Москвой. Детство (обыкновенно это показывают в прологе): дорогие игрушки, гувернеры и гувернантки. Отрочество: гимназия. Книжки и марки. Летом в деревне – утки. Первые любовные утехи – главным образом дворовые девки, под руководством опытного управляющего. И все другое, как полагается.
Университет. «Москва ночью». Пополнение прорех в эротическом образовании. И вдруг – в самый, можно сказать, пикантный момент – мобилизация.
Военное училище. Фронт. Ранен. Лазарет в тылу. Сестрички. Бездна наслаждений под скромной власяницей самаритянки. Опять фронт. Вторая линия. Скука разоренных местечек. Спирт и карты. В моменты жажды экстаза – евреечки. Глухие вести с тыла. Революция. Комитеты и товарищи. Отпуск. Москва. Прелесть мундира и связанные с ней сладости. И опять шок – Октябрь.
Скитания по квартирам. Последние убежища. Серая солдатская шинель и руки в саже: лишь бы без маникюра и обязательно с мозолями. Папу расстреляли. В имении – совет. Землю поделили начисто. В усадьбе, там, где воспоминания детства, – школа, деревенские сопляки.
Бегство. Поддельные бумаги. Крым, Врангель. Наступление. Реванш за «поруганную Россию». Отвоеванные местечки. Контрразведка. Счеты с большевиками. Расстрелы. Коммунисты и комсомольцы. В свободные минуты – евреи. Жидовочки: дуло к виску – и в очередь… Липкая вонючая кровь.
Эвакуация. Поспешная, унизительная, как бегство. Города и люди. Константинополь. София. Прага. Ликвидация пособий.
Голод. В Париже будто бы вербуют белых офицеров в армию Чжан Цзо-лина. Приехал. Враки – ничего подобного. Без средств. Турне по эмигрантским комитетам. Пособий не выдают. Таскал чемоданы на Северном вокзале. Работал на автомобильном заводе у Рэно как чернорабочий. Сократили. Опять на мостовой. Ночлежки под мостом. Единовременное пособие. Шоферский экзамен. И, как венец многолетних скитаний, – бессмертное, историческое такси.