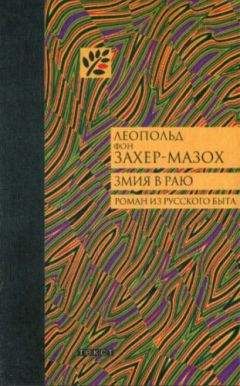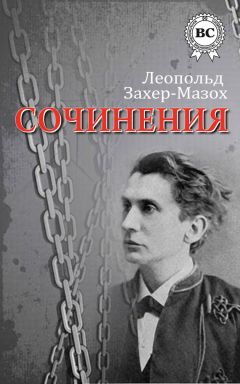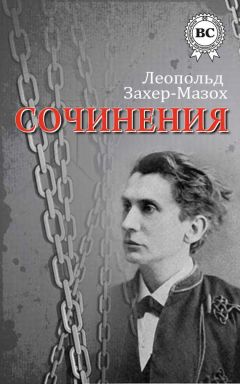— Разумеется, — зардевшись, пробормотал тот: он был совершенно ослеплен красотой Зиновии. Она же, как всегда быстро и безошибочно, проанализировала его своим методом. Взгляд ее умных глаз лишь на мгновение задержался на простодушном лице, широком и румяном, обрамленном расчесанными на прямой пробор светло-русыми волосами, которые торчали в разные стороны, напоминая соломенную крышу крестьянской хаты, — и она уже знала достаточно.
«Добрый человек, миролюбивый и легко управляемый, — гласил вывод, — а главное — надежный, словно столетний календарь. С ним можно жить как в раю, но его надо постоянно держать в узде. Впрочем, поживем — увидим».
— Отчего ты не убегаешь? — снова завелся Менев. — Я же тебе говорю, она ведьма.
— Оставь, наконец, свои ехидные шуточки, — обиженно огрызнулся дядюшка Карол.
— А я считаю Карола мужественным, — вмешалась Зиновия.
Все удивленно переглянулись, и всех удивленнее выглядел сам Карол.
— Настоящий герой, — продолжала Зиновия, — всегда начеку. Кем мы восхищаемся больше, Одиссеем или Ахиллом? Бесспорно, первым: ведь он преодолевает все опасности благодаря своему благоразумию и хладнокровию. Бывает отвага по глупости, и я ценю Карола именно за то, что в его случае это не так.
Дядюшка Карол не вполне понимал, что с ним происходит, однако на сердце у него потеплело, и он, обычно не решавшийся даже прикоснуться к женщине, от избытка чувств с юношеским пылом поцеловал лилейную руку Зиновии.
— Чисто античный мрамор, — едва слышно проговорил он.
— Ну вот, он опять оседлал своего любимого конька, — насмешливо заметил Менев.
— О! Я тоже увлекаюсь Элладой и Римом, — воскликнула Зиновия, — и немедленно докажу вам это, милый Карол. Пойдем, Наталья.
Дор´огой, на лестнице, у нее уже созрело решение держать дядюшку Карола про запас и выйти за него замуж, если ей не удастся завоевать Сергея.
«Значит, ты неплохо ориентируешься в мире Древней Греции», — молвила она про себя с миной молодого поэта, который благодарит публику после успешного представления своей первой пьесы.
Впрочем, Зиновия надеялась однажды в знак триумфа победоносно привязать его, по обычаю амазонок, к хвосту своей лошади — хотя бы и символически.
Когда чаровница снова спустилась вниз, на ней был белый с золотой каймой греческий хитон, позолоченные сандалии на ногах и золотые браслеты на обнаженных предплечьях, а горделивую голову ее украшал венок из роз, похищенных ради такого случая Натальей в зимнем саду.
У дядюшки Карола от этой картины перехватило дыхание.
— Сказочно! — восхищенно пробормотал он. — Сама Афродита, снизошедшая к смертным…
Вопреки своей привычке он в этот вечер совершенно не притронулся к еде, но зато во весь ужин не спускал пристального взгляда с Зиновии, которая сидела с ним рядом и время от времени приветливо кивала ему.
Внезапно со двора донесся скрип колес въезжающего экипажа, и две минуты спустя в дверях с гордым видом незаурядного артиста показался Винтерлих, держащий под мышкою ноты. После того, как и он, в свой черед, налюбовался Зиновией — впрочем, этому никто не препятствовал, — а потом с аппетитом умял две форели и целую жареную курицу, Наталья заняла место за роялем. Винтерлих, словно распорядитель концерта, гордо провел Зиновию — за руку — к инструменту. Затем взглядом попросил тишины, и первый дуэт начался.
Зиновия пела изумительно: ее голос, от природы наделенный сладостной мелодичностью, был отшлифован хорошей выучкой. Винтерлих на ее фоне выглядел как блеющий ягненок, соревнующийся с трелями соловья. Когда по окончании пения раздались громкие аплодисменты, он деликатно указал на Зиновию, решительно и категорично отвергнув всякое поощрение собственных скромных заслуг.
С началом второго дуэта он превратился в воплощение робости и с каждым тактом все больше стушевывался перед прекрасной певицей.
И вот они дошли до того места, которое уже при разучивании д´ома заставило его изрядно поломать голову.
«Я люблю тебя».
Никто не мог запретить ему любить Зиновию, ибо даже комару позволено танцевать в лучах солнца, но он никогда не посмел бы обратиться к ней на «ты» — нет, это было абсолютно недопустимо. Сердце у него бешено колотилось, а щеки краснели все гуще и гуще.
Зиновия уже давала ему взглядом понять, что настал черед его партии и медлить больше нельзя, тогда он принял смелое решение и вместо «Я люблю тебя!», истаивая нежностью, пропел «Я люблю вашу милость!».
Зиновия чуть не откусила себе язык, чтобы не расхохотаться, однако сдержалась, и любовный дуэт был благополучно допет до конца.
Был уже поздний час, когда гости засобирались в обратный путь. Винтерлих откланялся и приказал своему кучеру быстро ехать в Ростоки, где он намеревался переночевать. А дядюшка Карол все еще с тростью в руке беспомощно топтался в горнице.
— Ну вот, он снова боится один возвращаться домой! — насмешливо воскликнул Менев.
— А как далеко идти? — полюбопытствовала Зиновия.
— Пятнадцать минут.
Она лукаво улыбнулась, сделала знак Наталье и незаметно покинула комнату.
— Да что со мной, в сущности, может случиться? — принялся теперь сам себя успокаивать дядюшка Карол. — Здесь же нет ни разбойников, ни волков, а, кроме того, при мне моя собака; однако я опасаюсь, что уже изрядно похолодало, и потому, пожалуй, выпил бы еще чашку чая.
— Ты его сейчас получишь.
Подали чай. Карол пил очень медленно, но чай в конце концов кончился, и дядюшке пришлось-таки покинуть Михайловку. У ворот он остановился и внимательно осмотрелся по сторонам; тут-то к нему и приблизилась из темноты какая-то фигура.
— Кто здесь? — озадаченно спросил он.
— Я, — ответил звонкий голос.
— Зиновия, ты?
— Да, я хочу тебя проводить.
— А ты не боишься?
— Кого? Пусть лучше боятся меня. — И действительно, в высоких мужских сапогах, коротком черном полушубке и маленькой казачьей папахе Зиновия выглядела весьма молодцевато и ухарски.
— Пойдем!
Она взяла его под руку, и они храбро зашагали по дороге. Каждый предмет совершенно отчетливо виделся на расстоянии ста шагов, поскольку на небе не было ни облачка, а звезды горели так ярко, будто их основательно вычистили, сняв большими щипцами нагар. Наша пара благополучно добралась до Хорпыня, однако здесь собака внезапно насторожилась и враждебно залаяла. Тотчас из придорожной канавы поднялся дикого вида бродяга и принялся угрожающе размахивать дубиной.
— Вы чего это мне мешаете? Даже ночью от вас нет покоя, вы мне за это заплатите.
— Ступай-ка лучше своей дорогой, приятель, — дрогнувшим голосом предложил Карол.
— Что? Это я должен уступить? Ну, это мы сейчас посмотрим!
Бродяга разразился гомерическим хохотом и, нетвердо ступая, двинулся на обоих.
— Малый выпимши, — презрительно обронила Зиновия.
— Такие самые опасные, — пробормотал Карол.
Но Зиновия пропустила мимо ушей его предостережение, вырвала трость у него из рук и встала в боевую позицию.
— Ну давай, подходи, хмырь болотный! — повелительно бросила она босяку, и, когда тот в кураже хотел было кинуться на нее, она одним-единственным ударом уложила его на землю.
— Он мертвый? — опасливо поинтересовался дядюшка Карол.
Зиновия поддала изрядного пинка неподвижно растянувшемуся на земле субъекту.
— Эй, ты еще жив?
— Убили! Убили! — завопил тот во все горло. — На помощь! Спасите!
— Вот видишь, он себя очень хорошо чувствует, — рассмеявшись, констатировала Зиновия.
— Ах! Как же здорово ты действовала в этой схватке, — заметил Карол, когда они зашагали дальше, — мне казалось, я вижу перед собой Ипполиту или Пентесилею.
Зиновия благополучно довела его до самого дома, а затем, закурив папироску, беззаботно и весело пустилась в обратный путь. Когда она добралась до места, где свалила на землю бродягу, того уже и след простыл. Вероятно, он снова устроился отдыхать в какой-нибудь придорожной канаве.
Она без всяких приключений добралась Михайловки, но, когда вошла в дом, ее неожиданно обняла пара крепких рук и кто-то пылко поцеловал в губы.
— Нет, Менев, это уж слишком, — с досадой сказала Зиновия.
Серебристый смех тут же выдал Наталью.
— Это ты?
— Да, — ответила красивая девушка. — Однако, должна заметить, у моего почтенного папеньки, похоже, хороший вкус. Кто бы мог подумать?
Манила сладко дудка птицелова,
пока снегирь в силки не угодил.
Лессинг.
Натан МудрыйИменины отца были уже на самом пороге. Поэтому Феофан отправился к директору гимназии и попросил освободить его, а также двух его друзей, сыновей священника, от посещения лекций на следующий день. Он излагал просьбу с робкой кротостью, которая производила впечатление глубокой печали, и от волнения забыл даже назвать причину, требующую его присутствия в родительском доме.