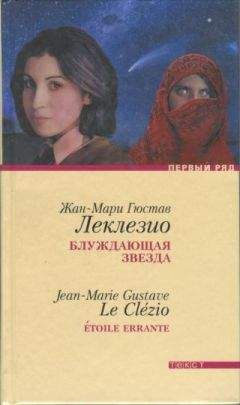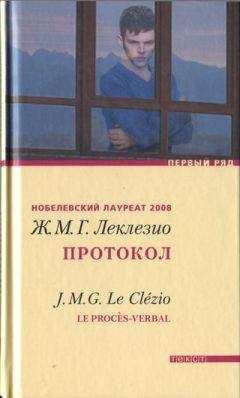Когда передо мной открывается море, ветер бьет наотмашь так, что дыхание перехватывает. Этот вихрь прижимает меня к скалам, свистит в зарослях. Я забралась в расщелину скалы, и море теперь прямо подо мной. Такое же прекрасное, как в Алонской бухте, огненная ширь, твердь, гладь с черными пятнами мысов и островов вдали. Ветер кружит у моего укрытия, воет и стонет, точно дикий зверь. Внизу бьется о скалы пена, брызги разлетаются на ветру. Здесь нет ничего — только ветер и море. Никогда еще я не чувствовала такой свободы. От нее кружится голова и пробирает озноб. Я смотрю на линию горизонта, как будто оттуда должен приплыть наш корабль по огненной дорожке, которую солнце проложило в море. Мысленно я унеслась по ту сторону, за море, за ветер, я оставила позади черные глыбы мысов и островов, где живут люди, где нас посадили в тюрьму. Птицей летела я над водой, летела с ветром, в солнечном свете и соленой пыли, и не стало для меня времени и расстояния, я уже по ту сторону, там, где вольная земля и свободные люди, где все по-настоящему ново. Никогда прежде я ни о чем таком не думала. Хмельной восторг овладел мной, в эту минуту я не помню ни о Симоне Рубене, ни о Жаке Берже, ни даже о маме, не помню об отце, сгинувшем в высокой траве, в горах над Бертемоном, не помню о корабле и о морских пехотинцах, которые меня ищут. Да и ищут ли меня, в самом деле?
Что, если я исчезла навсегда, здесь, между водой и небом, высоко в моей щели, в моем птичьем гнезде среди скал, с прикованным к морю взглядом? Мое сердце бьется ровно, медленно, я не чувствую больше страха, не чувствую ни голода, ни жажды, ни бремени будущего. Я свободна, я вобрала в себя свободу ветра и света. Впервые в жизни.
Весь день я просидела в своей пещерке, глядя, как солнце неспешно опускается в море. Так давно мне хотелось побыть совсем-совсем одной, чтобы никто рядом не разговаривал. Я вспоминаю горы, огромную долину, ледяное окошко, в которое я высматривала отца. Это я унесла с собой и, где бы ни была, извлекала всякий раз, когда мне хотелось одиночества. Эту картину я видела, когда оставалась одна в четырех стенах темной комнатенки на улице Гравийе, — она сама собой возникала на обоях. Я и сейчас это помню. Отец идет впереди в высокой траве, и пастушьи хижины из черных камней вокруг — это место, куда пришли мы с мамой. Тишина, только чуть шелестит трава под ветром. Их смех, когда они обнялись. Все, как здесь, — тишина, свистящий в зарослях ветер, безоблачное небо, огромная, окутанная туманом долина внизу и конусы горных вершин, словно острова в море. Я хранила это в себе всегда, везде, в гараже Симона Рубена, в квартире на улице Гравийе, откуда мы не выходили, даже когда Симон Рубен сказал, что немцы ушли и не вернутся, никогда больше не вернутся. Мне и тогда виделись горы, поросший травой склон, словно уходящий прямо в небо, утонувшая в тумане долина, тонкие струйки дыма, поднимавшиеся из деревень в прозрачном воздухе в предзакатный час.
Вот что я хочу помнить, только это, а не страшные звуки, не выстрелы. Я иду, как во сне, мама сжимает мою руку и кричит: «Скорее, детка, скорее, беги! Беги!» — и тащит меня вниз по склону, быстро, быстро, высокая трава режет мне губы, и я бегу, уже обогнав ее, хотя ноги подгибаются, когда я слышу ее странный дрожащий голос: «Беги же! Беги!»
Здесь, в моем укрытии на скале, мне впервые кажется, что я больше не услышу этих звуков, этих криков, не увижу больше этих картин из моих снов, потому что ветер, солнце и море проникли в меня и смыли все.
В этой пещерке я просидела до тех пор, пока солнце не опустилось к самому горизонту, коснувшись краем линии деревьев на полуострове по ту сторону рейда.
Тогда я вдруг почувствовала, что мне холодно. Холод пришел вместе с темнотой. Наверно, сказались и голод, и жажда, и усталость. У меня такое чувство, будто я так и шла, так и бежала без остановки с того дня, когда мы спустились с горы в высокой траве, изрезавшей мне губы и ноги, и сердце мое с того дня всегда билось чаще и сильнее прежнего, колотилось в груди, точно испуганный зверек. Даже в темной квартире на улице Гравийе я все равно шла, бежала, выбивалась из сил. Ко мне приходил врач, его звали Роз, я запомнила, хотя видела его всего один раз, но мама и Симон Рубен часто повторяли это необычное имя: «Мсье Роз сказал… Мсье Роз ходил… Мсье Роз считает, что…» Когда он пришел наконец, когда вошел в нашу убогую квартирку — я-то думала, с его приходом все озарится и засияет. Но не сказать, чтобы я была разочарована, когда увидела мсье Роза — маленького, круглого и лысого, в очках с толстыми стеклами. Он выслушал меня сквозь рубашку, ощупал шею и руки и сказал, что у меня астма и что я слишком худая. Дал от астмы эвкалиптовые пастилки, сказал маме, что я должна есть мясо. Мясо! Невдомек ему было, что мы ели только подгнившие овощи, которые мама подбирала на рынках, а бывало, что и одни очистки. Но с этого дня у меня был бульон из куриных шеек и лап, которые мама покупала два раза в неделю. А мсье Роза я больше не видела.
Я вспоминаю это, когда над рейдом сгущается ночь, потому что мне кажется, что здесь, в этой пещерке, я впервые никуда не бегу. Сердце наконец-то бьется в груди ровно и спокойно, я дышу легко и не слышу свиста в бронхах.
Я проснулась перед рассветом от лая собак. Моряки отыскали меня в моей пещерке и отвели обратно в Арсенал. Когда я вошла, мама встала с койки, бросилась ко мне, обняла. Она ничего не сказала. И я тоже ничего не могла ей сказать — ни объяснить, ни повиниться. Я знала, что никогда больше у меня не будет такого дня и такой ночи. Это осталось во мне, с морем, с ветром, с небом. Теперь сажайте меня в тюрьму хоть навечно.
Никто ничего не сказал. Но люди, которые до этого меня не замечали, теперь стали приветливы. Пастушок подсел ко мне и заговорил так вежливо, что, я удивилась. Мне казалось, что, пока я пряталась там, на скалах, прошли годы. Теперь мы с ним могли разговаривать целыми днями, сидя на полу у высоких окон. Ребе Йоэль тоже подходил к нам, он рассказывал об Иерусалиме, об истории нашего народа. Особенно я любила слушать, как он говорил о вере.
Ни отец, ни мама никогда на эту тему не говорили. Дядя Симон Рубен — иногда, но больше о ритуалах, праздниках, свадьбах. Для него все это было в порядке вещей, ничего страшного, никакой тайны, так, обычаи. А когда я задавала ему вопросы о вере, он сердился. Хмурил брови, смотрел косо, а мама стояла с виноватым видом. Я знаю почему, ведь мой отец не верил, он был коммунистом, так мне говорили. Поэтому дядя Симон Рубен не решался позвать раввина и о религии отзывался с гневом.
Но когда Пастушок разговаривал о вере с ребе Йоэлем, он становился совсем другим. Я любила слушать их и одновременно украдкой рассматривала — Пастушка с отросшей бородой и золотистыми волосами и Йоэля, черноволосого, худого, с очень бледным лицом. Глаза у него были светло-зеленого цвета, как у Марио, и мне думалось, что он-то и есть настоящий пастырь.
Странно было слушать разговоры о вере здесь, в этом большом помещении, где нас держали под арестом. Пастушок и Йоэль понижали голос, чтобы не мешать другим, и мне казалось, что мы не в Тулоне, а в египетском плену и что грозный голос грянет с небес и с гор и воссияет свет над пустыней.
А я задавала, наверно, глупые вопросы, я ведь ничего не знала. Отец ни о чем таком со мной никогда не говорил. Я спрашивала, почему нельзя произносить имя Бога и почему Он незрим, почему скрыт от глаз, если это Он сотворил все сущее. Ребе Йоэль отвечал, качая головой: «Он не скрыт от глаз и не незрим. Это мы незримы и скрыты от глаз, ибо мы во тьме». Он часто повторял: «тьма». По его словам выходило, что вера — это единственный свет, а вся жизнь людей, все их дела, все, что они создают великого и прекрасного, — все это тьма. «Тот, кто сотворил все сущее, — говорил он, — наш отец, мы рождены от Него. Эрец Исраэль — место, где мы родились, место, где свет воссиял впервые и где сгустилась первая тьма».
Мы сидели у зарешеченного окна, и я смотрела на синее-синее небо. «Никогда нам не доплыть до Иерусалима», — сказала я однажды, потому что устала, так устала об этом думать. Мне хотелось обратно в мою пещерку в скалах над морем. «Может быть, Иерусалима и нет на свете?» Пастушок посмотрел на меня с яростью. Его доброе лицо исказилось от гнева. «Почему ты так говоришь?» Он произнес это медленно, но глаза его горели нетерпением. «Может быть, и есть, — не унималась я, — но нам все равно не доплыть. Полиция нас не выпустит. Придется ехать назад, в Париж». — «Нет, — сказал Пастушок, — не выпустят сегодня — мы уплывем завтра. Или послезавтра. А если нас не пустят на корабль — мы пойдем пешком, пусть даже идти придется год». Не знаю, надо ли ему было уехать, чтобы забыть, но он тоже хотел увидеть землю, где родилась его вера, где была написана первая книга. Сердце у меня билось чаще, когда я видела свет в его глазах. Раз он так хочет доплыть до Иерусалима, думалось мне, может быть, мы и вправду доплывем когда-нибудь.