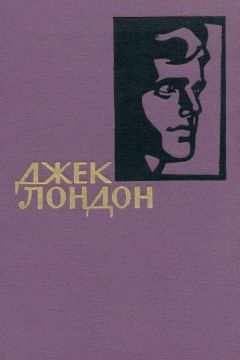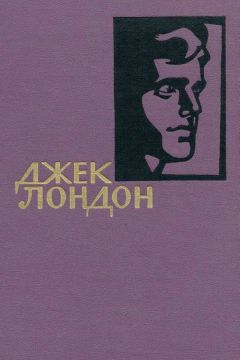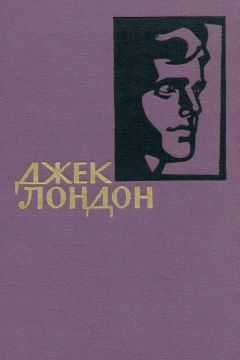Сам А Ким, на поколение моложе своей матери, тоже был отравлен ядом современности. Старый порядок существовал, поскольку в тайниках души он чувствовал, как касается его, А Кима, запыленная рука прошлого. Однако он страховал свою жизнь и свое имущество, собирал деньги в пользу местных китайских революционеров, намеревавшихся превратить Небесную империю в республику, вносил пожертвования в кружок китайских бейсболистов, побивших в этой американской игре самих американцев, беседовал о теософии с японским буддистом и шелкоторговцем Катсо Сугури, потакал полиции во взяточничестве, вносил свою долю денег и участия в демократическую политику аннексированных Гавайев и подумывал о покупке автомобиля. А Ким никогда не решался обнажать перед самим собой свою душу и устанавливать, чем он поступился из старого. Его мать принадлежала старине, а он ведь почитал ее и был счастлив под ее бамбуковой палкой. Ли Фаа, Серебристый Цветок Луны, принадлежала новому времени, а он никогда не мог быть вполне счастлив без нее.
Потому что он любил Ли Фаа. С лицом, как луна, круглый, как арбузное семечко, ловкий делец, умудренный опытом полувековой жизни, А Ким становился поэтом, мечтая о Ли Фаа. Для нее он придумывал целые поэмы наименований: женщину он превращал в цветок, в философские абстракции совершенства и красоты. Для него одного из всех мужчин на свете она была Цветком Сливы, Тишиной Женственности, Цветком Блаженства, Лилией Луны, Совершенным Покоем. Бормоча эти сладостные имена любви, он слышал в них плеск ручейков, звон серебряных колокольчиков, благоухание олеандров и жасмина. Она была его поэмой о женщине, его поэтическим восторгом, духом о трех измерениях, его судьбой и счастьем, предначертанным ему еще до создания богами первого мужчины и первой женщины — богами, которые из прихоти создали всех мужчин и всех женщин для радости и горя.
Однажды мать сунула ему в руки тушь, кисточку и положила на стол табличку для письма.
— Нарисуй, — сказала она, — идеограмму «жениться».
Он повиновался, почти не удивившись, и с артистичностью, присущей его расе, столь опытной в этом искусстве, вывел символический иероглиф.
— Прочти его, — приказала она.
А Ким взглянул на мать с любопытством, он желал угодить ей, но в то же время не понимал ее намерения.
— Из чего он составлен? — упорно добивалась она. — Что означают три слагаемых, сумма которых составляет: жениться, соединение, бракосочетание мужчины и женщины? Нарисуй, нарисуй каждое из них отдельно, несвязно, чтобы мы поняли, как проникновенно построили древние мудрецы идеограмму «жениться».
А Ким повиновался и, рисуя, увидел: то, что чертила его кисточка, было три знака — знак руки, уха и женщины.
— Назови их, — приказала мать; и он назвал.
— Верно, — произнесла она. — Это великий замысел! Такова сущность брака. Таким некогда и был брак; и таким он всегда будет в моем доме. Рука мужчины берет за ухо женщину и вводит ее в дом, где она обязана повиноваться ему и его матери. Так вот и меня взял за ухо твой давно и почтенно скончавшийся отец. Я присмотрелась к твоей руке. Она не похожа на его руку. Я присмотрелась и к уху Ли Фаа. Тебе никогда не удастся повести ее за ухо. Не такие у нее уши. Я проживу еще долго и до самой смерти буду госпожой в доме моего сына, как то велит старинный обычай.
— Но ведь она моя почитаемая родительница, — объяснял А Ким Ли Фаа.
Ему было не по себе, ибо Ли Фаа, убедившись, что миссис Тай Фу пошла в храм китайского эскулапа, чтобы принести в жертву сушеную утку и помолиться о своем слабеющем здоровье, воспользовалась случаем и навестила А Кима в его магазине.
Ли Фаа, сложив свои дерзкие ненакрашенные губы в виде полураскрытого розового бутона, отвечала:
— Для Китая это еще куда ни шло. Я не знаю Китая. Но здесь Гавайские острова, а на Гавайях иностранцы меняют свои обычаи.
— Но так или иначе она моя родительница, — возражал А Ким, — мать, давшая мне жизнь, независимо от того, где я нахожусь, в Китае или на Гавайях, о Серебристый Цветок Луны, который я хочу назвать своей женой.
— У меня было два мужа, — спокойно констатировала Ли Фаа, — один пакэ, другой португалец. Я многому научилась от обоих. Кроме того, я образованная женщина, я училась в колледже и играла на рояле перед публикой. А от своих мужей я научилась еще большему. Я поняла, что китайцы — самые лучшие мужья. Никогда я не выйду больше замуж не за китайца. Но ему не придется брать меня за ухо.
— Откуда вы все это знаете? — подозрительно прервал ее А Ким.
— От миссис Чанг Люси, — последовал ответ. — Миссис Чанг Люси сообщает мне все, что ей говорит ваша мать, а она говорит ей немало. Поэтому я позволю себе предупредить вас, что ухо у меня для этого не приспособлено.
— Это же говорила мне моя досточтимая матушка, — простонал А Ким.
— Это же ваша досточтимая матушка говорила миссис Чанг Люси, а миссис Чанг Люси мне, — дополнила Ли Фаа. — А я теперь говорю вам, о мой будущий третий супруг, что еще не родился человек, который поведет меня за ухо. На Гавайях это не принято. Я пойду со своим мужем только рука об руку, бок о бок, нога в ногу, как говорят хаоле. Мой португальский муж думал иначе. Он пробовал бить меня. Я три раза отводила его в полицию, и он всякий раз отбывал наказание на рифах. Кончилось тем, что он утонул.
— Моя мать была мне матерью в продолжение пятидесяти лет, — набравшись храбрости, вставил А Ким.
— И в продолжение пятидесяти лет она била вас, — захихикала Ли Фаа. — Как мой отец, бывало, смеялся над Яп Тен-Шином! Яп Тен-Шин, как и вы, родился в Китае и вывез оттуда китайские обычаи. Старик отец постоянно колотил его палкой. Он любил отца. Но отец стал бить его еще сильней, когда миссионеры обратили Яп Тен-Шина в христианство. Как только он отправлялся на проповедь, отец его бил. И миссионер корил Яп Тен-Шина за то, что тот позволяет себя бить. А мой отец знай себе смеялся, потому что он был свободомыслящий китаец и отказался от своих обычаев быстрее, чем большинство других иностранцев. Вся беда заключалась в том, что у Яп Тен-Шина было любящее сердце. Он любил своего досточтимого отца. Он любил бога любви христианских миссионеров. Но под конец во мне он нашел величайшую любовь, то есть любовь к женщине. Со мной он забыл свою любовь к отцу и любовь к любвеобильному Христу.
Он предложил моему отцу за меня шестьсот долларов. Цена невысокая, потому что ноги у меня не были сделаны маленькими. Но я ведь наполовину каначка. Я объявила, что я не рабыня и не допущу, чтобы меня продавали мужчине. Моя учительница в колледже была старая дева хаоле, она всегда говорила, что женская любовь неоценима, что ее нельзя продавать за деньги. Может быть, поэтому она и осталась старой девой. Она была некрасивая и не нашла себе мужа. Моя мать утверждала, что продавать дочерей не канакский обычай. У канаков их отдают за любовь, и она согласна внять просьбе Яп Тен-Шина, если он устроит целый ряд больших и роскошных празднеств. Мой отец, как я уже говорила, был человек либеральный. Он спросил, хочу ли я иметь мужем Яп Тен-Шина. Я отвечала: да, и сама, по собственной воле пошла к нему. Это он погиб от лошади, но до того, как она его лягнула, он был прекрасным мужем.
Что же касается вас, А Ким, то я всегда буду вас любить и уважать, и в один прекрасный день, когда вам не будет надобности брать меня за ухо, я выйду за вас замуж, приду сюда и навеки останусь с вами, а вы станете счастливейшим пакэ на всех Гавайях, потому что у меня уже было два мужа, я училась в колледже и очень преуспела в искусстве делать мужа счастливым. Но это будет тогда, когда ваша мать перестанет бить вас. Миссис Чанг Люси уверяет, что она бьет вас очень сильно.
— Да, — согласился А Ким. — Смотрите. — Он откинул широкие рукава, обнажив до локтя свои гладкие, пухлые руки. Они были покрыты синяками и кровоподтеками, свидетельствовавшими о количестве и силе ударов.
— Но она ни разу не заставила меня плакать, — поспешил добавить А Ким. — Ни разу, даже когда я был еще маленьким мальчиком.
— То же самое говорит и миссис Чанг Люси, — подтвердила Ли Фаа. — Она говорит, что ваша досточтимая матушка часто жалуется ей на то, что ни разу не заставила нас плакать.
Предостерегающий свист одного из продавцов раздался слишком поздно. Вошедшая в дом с черного хода миссис Тай Фу возникла перед ними в дверях жилого помещения. Никогда еще А Ким не видал у матери столь грозных глаз. Не обращая внимания на Ли Фаа, она закричала:
— Ну, теперь-то уж ты у меня заплачешь! Я буду колотить тебя, пока слезы сами не польются у тебя из глаз.
— Тогда пройдемте в задние комнаты, досточтимая матушка, — предложил А Ким. — Закроем окна и двери, и там вы будете бить меня.
— Нет! Я буду бить тебя здесь, перед всем светом и перед этой бесстыдной женщиной, которая норовит взять тебя за ухо и такое кощунство называет браком! Останьтесь, бесстыдница!