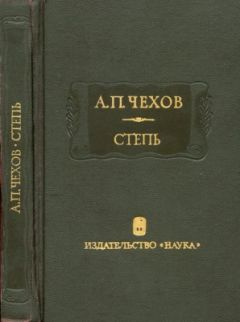В переписке, возникшей, казалось бы, по счастливой случайности (ведь Григорович мог и не отметить чеховские рассказы или не откликнуться на них), есть нечто исторически неизбежное. Один из поздних персонажей Чехова говорит: «Если бы у меня была охота заказать себе кольцо, то я выбрал бы такую надпись: „Ничто не проходит“» («Моя жизнь», 1895. С., 9, 279).
С писателями старшего поколения Чехов в эту пору общался охотнее и легче находил с ними общий язык, чем с иными из своих сверстников. Его заветные замыслы — в частности, и «Степь» — хорошо понимали люди, помнившие и ценившие не только «Записки охотника», но и романтическую поэзию и прозу пушкинских и гоголевских времен. Н.К. Михайловскому, например, «Степь» показалась старомодной и скучноватой, и не диво: привычно было читать об эмансипации женщин, о нигилизме или хождении в народ, а степь, дорога, поэзия зорь и гроз — все это давно уже вышло из моды. Григорович восторгался «Егерем» потому, что узнал в нем тургеневский почерк, а критик В.К. Стукалич (Веневич) бранил «Степь» за то, что она не походила на степные очерки Левитова…
Старая критика, а вслед за нею и позднейшее литературоведение весьма уверенно говорили о том, что Чехов выдвинулся в пору безвременья, в годы своеобразного интеллектуально-художественного застоя, когда умерли Достоевский, Островский, Тургенев, Писемский, как будто смерть писателя, конец его земного существования есть в самом деле конец, а не начало его жизни в общественном сознании, его славы (если она не мимолетна, то поневоле посмертна), его исторической судьбы.
Чехов, которому в ту пору исполнилось 26 лет, был растроган письмом Григоровича, как никаким иным в своей жизни. «Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния <…> Как Вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит Вашу старость». Есть в этих строках, помеченных 28 марта 1886 г., открытость и лирика, каких в обширной чеховской переписке, пожалуй, больше не найти; обычно он писал сдержаннее и спокойнее, и тон его ответа, быть может, ярче всего свидетельствует о том, какую цену имело в его глазах обращение Григоровича: «У меня в Москве сотни знакомых, между ними десятка два пишущих, и я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника» (П., 1, 216, 218).
Обращаясь к человеку, портрет которого он еще в гимназические годы видел в монументальном трехтомнике «Русские современные деятели», Чехов писал о том распутье — или, говоря точнее, о том тупике, в котором, как ему тогда казалось, он очутился. Среди нескольких сотен рассказов и сценок, напечатанных к этому времени в юмористических еженедельниках, были вещи классические, оставшиеся в золотом фонде русской литературы, но тем не менее о своем «осколочном» прошлом он вспоминал с болью.
В отношении больших писателей к своему раннему творчеству всегда есть сомнения и недовольство; позднее Чехов вполне серьезно писал Короленко, что ему случалось водить свою музу в такие места, где бывать ей совсем не подобало. Главная беда была в том, что появление писателя в юмористической журналистике, в так называемой «малой прессе», работа под псевдонимом или даже под разными псевдонимами воспринималась как заведомое легкомыслие и шутовство: «Люди „идейные“ интересовались им, в общем, мало: признавали его талантливость, но серьезно на него не смотрели, — помню, как некоторые из них искренне хохотали надо мной, юнцом, когда я осмеливался сравнивать его с Гаршиным, Короленко, а были и такие, которые говорили, что и читать никогда не станут человека, начавшего писать под именем Чехонте. „Нельзя представить себе, — говорили они, — чтобы Толстой или Тургенев решились заменить свое имя такой пошлой кличкой“».35
Больше того: такое прошлое могло лишить писателя всякого будущего. Чехов писал секретарю «Осколков» В.В. Билибину 28 февраля 1886 г.: «Надо полагать, после дебюта в „Новом времени“ меня едва ли пустят теперь во что-нибудь толстое… Как вы думаете? Или я ошибаюсь?» (П., 1, 204).
Он ошибался: его скоро пригласили в «Северный вестник», для которого и была предназначена «Степь». Но здесь сыграли свою роль рекомендации Плещеева и Григоровича, дружеское расположение Короленко. Позднее Чехов даже гордился тем, что «пробил дорогу» к толстым журналам, странным образом не заметив, что пройти по этой дороге не смог вслед за ним никто. Это не стало правилом, это было единственное в своем роде исключение, о котором критик Л.E. Оболенский писал так: «…он народился, так сказать, в ослиных яслях, в юмористических журналах, среди того навоза, которым покрывают свои страницы эти несчастные листки, в виде карикатур на обманутых мужей, на зловредных тещ и в виде рисунков с обнаженными бабами. Среди такого общества трудно было заметить г. Чехова».36
2
К тому времени, когда Чехов принялся за свою «Степь», у него уже были известность и довольно громкое литературное имя — Антоша Чехонте: вышли в свет его первые сборники; «Пестрые рассказы» пользовались популярностью. Бунин вспоминал: «…я эту книгу прочел в поезде, не отрываясь, купив ее в Ельце, на вокзале, в шестнадцать лет, и пришел в восторг».37
Литературная судьба Чехова, казалось бы, вполне определилась, и обращение его к непривычному жанру, к пространной и, как вскоре с редким единодушием отметит литературная критика, скучноватой повести казалось необъяснимой причудой; Н.А. Лейкин был уверен, что его любимого сотрудника сбивают с пути: «Повесить мало тех людей, которые советовали Вам писать длинные вещи».38
Эта повесть, отделившая Антошу Чехонте от Антона Чехова, читалась как фрагмент несостоявшегося романа, как своеобразная «переломная» форма. И мысль о «переломе» в чеховском творчестве, восходящая к старой русской критике, дожила до наших дней и по-прежнему занимает свое, теперь уже хрестоматийное место среди таких примелькавшихся трюизмов, как этнографичность, бессюжетность или «местный колорит». По-прежнему «Степь» заключена в своеобразные нераскрытые скобки: никаких соответствий с ранним творчеством, где ничто, казалось бы, не предвещало появления этой далекой от всякого юмора повести, никаких соотнесений с драматургией и прозой последующих зрелых лет, наконец, никаких сопоставлений с классическими повествовательными традициями, хотя на них-то прежде всего и опирался в этой повести Чехов.
Дело здесь не в отдельных ошибках биографов и комментаторов, а в общей концепции творческой эволюции Чехова, которая сложилась еще при его жизни и в те времена, строго говоря, не могла быть иной. Как всякая традиционная схема, она обладает большой инерцией и преодолевается медленно и с трудом, так что и в наши дни едва ли кто-либо решится утверждать, что проблем, так или иначе связанных со «Степью», больше не существует.
С появлением «Степи» сложилась такая картина творческой эволюции Чехова: он шел в литературе путем постепенных количественных накоплений, от юморески в несколько строчек к сценке, затем к рассказу, водевилю, большой повести, пьесе — и так от безвестных безделушек до «Студента», «Дома с мезонином», «Трех сестер» и «Вишневого сада». Собственно, и «Степь» показалась критике «собранием картинок и сценок», поскольку ее автор не имел опыта работы над крупной литературной формой. Так и писали: и ничего мы вместе не сольем…
Возникла характернейшая историко-литературная коллизия, когда непривычная, новаторская вещь воспринимается как вещь неудавшаяся. Позднее так будет с «Чайкой» и «Вишневым садом», а раньше — гораздо раньше, на заре творчества — так было с юношеской пьесой («Безотцовщина»), каким-то чудом сохранившейся в семейном архиве, несколько десятилетий пролежавшей в безвестности и наконец возвращенной к жизни в сценарии кинофильма «Неоконченная пьеса для механического пианино». С точки зрения традиционного старого театра это была вовсе не пьеса, а неумелый черновик, нагромождение сцен, монологов, реприз, подборка сценических материалов…
Между тем Чехов, тогда студент, предназначал свое творение для сцены Малого театра, для Ермоловой. И лишь полвека спустя, с появлением кинематографа и так называемого «режиссерского» театра, стало выясняться, что это вовсе не беспомощно-детская, а новаторская пьеса, предвещавшая появление в искусстве новых форм.
Пьеса Малым театром принята не была, и Чехову, судя по всему, дали жестокий урок, о котором он помнил до конца жизни: «Этого свинства, которое со мной было сделано, забыть нельзя… Слишком много было тяжелого… Да знаете ли вы, как я начинал? Да и до сих пор…».39
Для истории литературы важно то, что пьеса была написана до появления в «малой прессе» юмористических рассказов и сценок Антоши Чехонте, важно как раз крушение юношеских надежд и иллюзий. Что схема постепенной художественной эволюции неверна, можно было бы, впрочем, догадываться и раньше. У большого художника не может быть «постепенной» судьбы. Невозможно «понемножку» стать Грибоедовым и Толстым. Здесь ничего не значат ни великое усердие, ни труд: «Надо чем-то быть, чтобы что-то сделать» (Гете).40