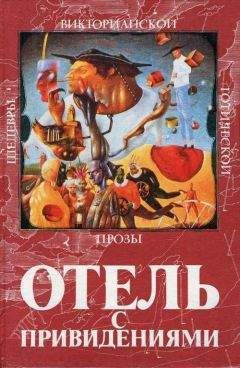Не имея возможности добиться от друга признания, я мог полагаться только на доступные мне источники и решил перечитать дневник Адриана Темпла. Это была неприятная задача, но я надеялся обнаружить новые нюансы, которые пролили бы некоторый свет на то, что же в конце концов так тяготило и мучило сэра Джона. Я вновь внимательнейшим образом прочитал рукопись. Однако не обнаружил в ней для себя решительно ничего нового, и уже почти дошел до конца второй тетради, как вдруг одно незначительное обстоятельство привлекло мое внимание. Как я говорил, все страницы в дневнике были аккуратно пронумерованы, записи делались каждый день, и, если даже не случалось ничего достойного упоминания, Темпл все равно ставил дату и напротив нее писал одно слово — nil.[19] И вот однажды вечером, когда сэр Джон уже спал, я сидел в библиотеке и листал дневник, просматривая даты, чтобы убедиться, нет ли пропусков. В конце второй тетради я вдруг заметил, что одна дата отсутствует — 23 октября 1752 года. Взглянув на нумерацию страниц, я увидел, что три страницы — с 349 по 354 — вырваны. Я вновь просмотрел дневник с самого начала и убедился, что остальные страницы на месте. Рукопись была безукоризненной, в ней едва можно было заметить ошибку или подчистку. Присмотревшись, я обнаружил, что кто-то вырезал три страницы у самого переплета, срезы были еще достаточно свежими, во всяком случае не столетней давности. И я понял, что страницы вырезал сэр Джон.
Моим первым побуждением было немедля пойти к нему и попросить объяснений. Вполне вероятно, что речь шла о каком-нибудь пустяке, и сэр Джон быстро развеял бы мое недоумение. Тихо открыв дверь спальни, я увидел, что он спал. Парнем (который бодрствовал при свете, постоянно горевшем в комнате) сказал, что хозяин уже больше часа крепко спит. Зная, как необходим сон подорванному организму, я не стал будить сэра Джона и вернулся в библиотеку. Несколько минут назад, когда я листал дневник, меня клонило в сон, но теперь сонливость как рукой сняло, я находился в состоянии лихорадочного возбуждения. Оно напомнило мне ощущения, которое я испытывал несколько лет назад в Оксфорде, когда мы исполняли гальярду, и тут по внезапному наитию я понял, что в этих трех страницах и скрыта тайна, погубившая моего друга.
Я вновь погрузился в чтение, пытаясь хоть за что-нибудь уцепиться. Записи, предшествовавшие 23 октября, были скупыми и не содержали ровным счетом ничего достойного внимания. Адриан и Джослин вдвоем проводили время на вилле де Анджелис. Запись от 22 числа заканчивалась в конце 348 страницы, затем страницы были вырваны, и запись от 24 октября начиналась с самого начала 355 страницы. Она была краткой и написана явно в досаде после бегства Джослина.
По всей видимости, подобное предательство доверенного лица явилось для Темпла полной неожиданностью, он явно ни о чем не подозревал. Темпл писал, что беглец нашел себе приют у картезианцев в Сан-Марино. Хотя оставалось неясным, что именно побудило его так поступить, Темпл намекал, что тот не перенес какого-то потрясения. Запись заканчивалась весьма желчной тирадой: «Итак, прощай, мой святой отшельник. Хотя я не могу одарить его на прощание проказой, как поступил пророк Елисей со своим слугой, он по крайней мере ушел от меня с лицом белым, как снег».
Я не раз читал эту фразу раньше, и она ничем особенным не привлекала моего внимания. На мой взгляд, странные слова, что Джослин удалился с лицом белым, как снег, означали лишь то, что они расстались в страшной ссоре, и Темпл набросился на своего бывшего приспешника с ругательствами и кулаками. Но ночью в библиотеке эти слова вдруг приобрели для меня совсем иной смысл, и страшное подозрение шевельнулось во мне.
Как известно, болезнь сэра Джона сопровождалась удивительной бледностью. Хотя я довольно долго прожил в Уорте, я никак не мог привыкнуть к полному отсутствию красок в лице больного. Но мне никогда не приходило в голову в этой связи, что Адриан Темпл тоже отличался странной бледностью — это ясно видно на портрете, написанном Баттони. Более того, когда сэр Джон рассказывал о привидении, которое померещилось ему в Оксфорде, он всегда подчеркивал восковую бледность лица своего гостя. По семейному преданию, Темпл стал таким после каких-то магических опытов, и меня пронзила мысль, что слова «белое, как снег» означают лишь одно — на лице Джослина появилась та же самая мертвенная бледность, пометив его точно клеймом.
При мне находились письма, которые покойная леди Малтраверз писала домой во время злополучного свадебного путешествия. Мне передала их мисс Малтраверз, чтобы я мог познакомиться со всеми обстоятельствами загадочной болезни сэра Джона. Я вспомнил, что в одном из писем говорилось о том, что в Неаполе с Джоном случился приступ малярии, и тогда его жена впервые заметила эту странную бледность. Я легко нашел письмо и перечитал его совсем другими глазами. В каждой его строчке звучали недоумение и тревога за мужа, который серьезно заболел. В тот день сэр Джон не находил себе места в непонятной тревоге, и, когда супруги легли спать, он не мог уснуть, оделся и, сказав, что подышит ночным воздухом, ушел. Вернулся он только в шесть утра и был так измучен, что его сразу же уложили в постель. Лицо его покрывала страшная бледность; по мнению врачей, у него случился приступ какой-то редкой малярии.
На письме стояла дата 25 октября, значит, первый приступ случился ночью 23 октября, и, по всей видимости, совпадение с датой на страницах, исчезнувших из дневника, было неслучайным. Я уже не сомневался, что моего друга сгубила та роковая ночь в Неаполе.
Я вспомнил, как доктор Фробишер, осмотрев сэра Джона в Лондоне, спрашивал мисс Малтраверз, не пережил ли ее брат какого-либо душевного потрясения или сильного испуга? Теперь я знал, как ответить на этот вопрос: да, пережил. Я был так уверен в этом, словно Джон сам признался мне во всем. Что именно потрясло его ночью 23 октября, я не мог представить себе, но одно было несомненно: то, что видел сэр Джон, сто лет назад на том же самом месте увидели Адриан Темпл и Джослин. Ужас, который до гробовой доски пометил нечеловеческой бледностью лица всех троих, не оказал такого гибельного воздействия на Темпла, он давно уже безраздельно предался злу, но заставил более слабого Джослина содрогнуться и бежать в монастырь, а сэра Джона свел в могилу.
Такие мысли одолевали меня, пробуждая в душе какую-то смутную тревогу. Была уже глубокая ночь, вокруг царила тишина, а темноте горела только моя одинокая свеча, и мне почудилось, будто сам мрак надвигается на меня. Страх сжал мне сердце, и я понял своего друга, который так боялся оставаться один. Хотя всего лишь дверь отделяла меня от его спальни и я слышал его ровное дыхание, мне вдруг захотелось разбудить его или Парнема, услышать человеческий голос и отвлечься от зловещих мыслей. Усилием воли я взял себя в руки, чтобы еще раз все обдумать и попытаться найти хотя бы приблизительное истолкование этой тайны. Но все мои старания были напрасны. Я только измучил себя, но так ничего и не придумал, кроме одного — по всей видимости, странное совпадение дат говорило о том, что только в эту единственную ночь в году можно было совершать какой-то колдовской обряд или вызывать привидение.
Уже занималось утро, когда я забылся тяжелым сном в кресле. Но спал я недолго, и во сне передо мной проносились какие-то фантастические видения. Я видел сэра Джона, но не больного и истощенного, а в самом расцвете молодости, каким я знал его в Оксфорде. Он стоял у жаровни, в которой пылал огонь, и произносил какие-то невнятные слова, а в углу сидел человек с бледным лицом, рот его кривился в усмешке, и он играл на скрипке гальярду. Парнем разбудил меня в семь часов и сказал, что сэр Джон по-прежнему крепко спит.
Я решил дождаться, когда он проснется, и выспросить у него все об этих вырванных страницах. Хотя мое нетерпение росло с каждым часом, мне пришлось унять свое любопытство, так как сэр Джон не проснулся и к полудню. Утром приехал доктор Братон и успокоил нас, сказав, что такой сон целебен для больного, и будить его ни в коем случае нельзя. В тот день сэр Джон продремал до самого вечера. Когда наконец сонливость прошла, было уже очень поздно, и я не решился заговорить с ним о дневнике, чтобы не тревожить его на ночь глядя.
К ночи он вдруг впал в странное волнение и несколько раз вставал с постели. Такие беспокойные метания, сменившие дневное забытье, должны были бы насторожить меня, поскольку известно, что людей и животных при приближении смерти охватывает подчас необычное волнение, они не находят себе места, стараются не заснуть, словно боятся, что во сне, беспомощных, их и схватит враг. Они сбрасывают простыни, встают с постели и начинают ходить. Так было и в тот сочельник, последний в жизни бедного Джона Малтраверза. Я сидел подле него, пытаясь унять его волнение. Вскоре он стал спокойнее и заснул. В ту ночь я дежурил в его комнате вместо Парнема и после бессонной ночи, проведенной накануне, бросился, не раздеваясь, на постель. Дремал я недолго, меня разбудили звуки скрипки. Я увидел, что сэр Джон встал с постели, достал свой любимый инструмент и, как лунатик, играл на нем. Из скрипки неслась мелодия гальярды, которую я не слышал с оксфордской поры, и она живо разбудила во мне образы прошедшего. Я был в отчаянии, проклинал себя, что заснул и не помешал Джону, и вот теперь он играет мелодию, которая причинила ему столько зла. Я уже готов был осторожно разбудить его, но произошло нечто странное. Едва я приблизился, как скрипка будто развалилась у Джона в руках. Корпус не выдержал натяжения струн и сломался. Когда внезапно ослабли струны, последняя нота оборвалась каким-то чудовищным диссонансом. Будь я суеверен, я бы сказал, что в это мгновение из скрипки вылетел злой дух и в страшных корчах сломал деревянную обитель, где так долго находил убежище. Скрипка Страдивари прозвучала в последний раз, и этот душераздирающий аккорд был последним, который исполнил в своей жизни Малтраверз.