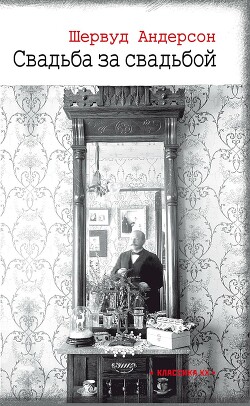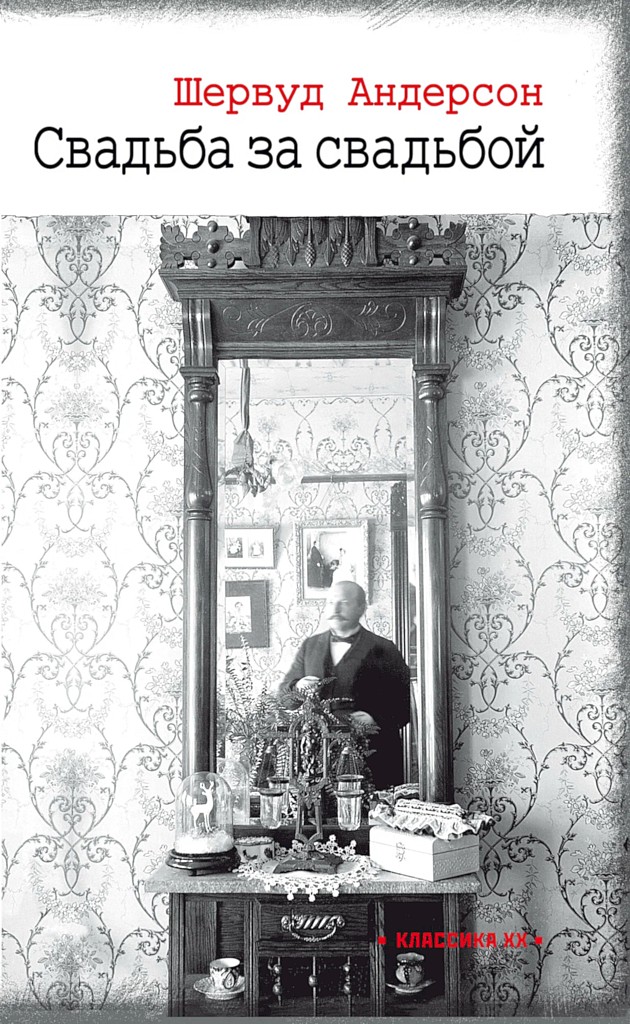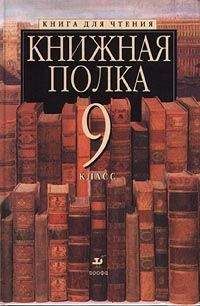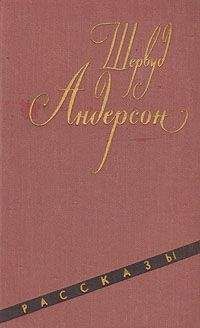Если живешь за стеной, значит, тебе так больше нравится — жить за стеной. За стеной свет тусклый, он не режет глаза. Сюда нет ходу воспоминаниям. Звучание жизни на расстоянии начинает слабеть, становится невнятным. Что-то варварское, дикое есть во всей этой затее, с тем чтобы ломать стены, проделывать дыры и расковыривать трещины в стене жизни.
Внутри женщины, Мэри Уэбстер, тоже шла борьба. Какая-то непривычная, другая жизнь то появлялась, то угасала в ее взгляде. Если бы в эту минуту в комнате появился кто-то четвертый, то именно ее он ощутил бы пронзительнее, чем тех, других.
Как же это ужасно — то, как ее муж Джон Уэбстер расстелил, подготовил это поле битвы, которая теперь бушует в ней. Этот мужчина все-таки — драматург. Все эти покупки — картинки с Девой, свечи, обустройство этой маленькой сцены, на которой предстояло разыграться спектаклю, во всем этом был безотчетный порыв к выразительности, свойственной искусству.
Быть может, по его виду было и не сказать, что он что-то такое задумывает, но с какой же дьявольской уверенностью он трудился. Женщина сидела на полу в полутьме. Между нею и горящими свечами — кровать, на которой сидят те, другие, один говорит, другая слушает. Весь пол вокруг в густых черных тенях. В поисках опоры она взялась рукой за косяк.
Огоньки свечей там, наверху, подрагивали. Свет попадал только на ее плечи, голову и поднятую руку.
Она почти полностью погрузилась в океан тьмы. И вот усталость достигла пика, и голова ее склонилась, так что казалось, будто она вся целиком погрузилась в океан.
Но рукой-то она по-прежнему держалась за косяк, и вот голова ее снова показалась над поверхностью. В ее теле пульсировал почти неуловимый ритм. Она была словно ветхая, наполовину затопленная лодка, что покоится на глади морской. Мелкая, дрожащая рябь световых волн резвилась на ее крупном, поднятом к потолку белом лице.
Вроде бы трудно стало дышать. И думать вроде бы стало трудно. Проживаешь год за годом, ни о чем не задумываясь. Лучше всего было покоиться на глади морской в океане безмолвия. Как мудро устроен мир: ведь он отвергает и превращает в изгоев всех, кто потревожит океан безмолвия. Тело Мэри Уэбстер подрагивало. Можно убить, но нет силы убить, нет знания, как убить. Убийству — и тому, хочешь не хочешь, надо учиться.
Это совершенно невыносимо, но время от времени ты обязана думать. Так уж оно устроено. Женщина выходит замуж за мужчину, а потом совершенно неожиданно обнаруживает, что вовсе не выходила за него замуж. В мире в ходу странные, неестественные понятия о браке. Дочерям нельзя рассказывать таких вещей, какие сейчас рассказывает их дочери ее муж. Может ли отец изнасиловать сознание собственной юной целомудренной дочери, заставив ее понимать неизъяснимые явления бытия? Если бы подобное было позволительно, то во что превратился бы весь благопристойный, упорядоченный уклад мира живых? Целомудренным девушкам не полагается ничего знать о жизни до тех пор, покуда не придет время ужиться, уже по-женски, с тем, что однажды просто пришлось принять.
В каждом человеческом теле есть великий колодец безмолвных раздумий, которым нет конца. Вслух произносятся те или иные строго определенные слова, но в то же самое время глубоко внутри, в самых потаенных глубинах, звучат слова иные. Это залежи мыслей и невысказанных чувств. Сколько же всего низвергнуто в глубокий колодец, спрятано в глубокий колодец!
Тяжелая железная крышка лежит на том колодце, зажимает колодцу рот. И когда эта крышка надежно закреплена в пазах, то бояться нечего. Ходишь-бродишь, говоришь слова, доедаешь пищу, надоедаешь людям, ведешь дела, копишь средства, носишь одежду, проживаешь свою нормальную упорядоченную жизнь.
Иногда по ночам, когда ты видишь сны, крышка немножко дрожит, но об этом никто не знает.
Зачем нам те, кто стремится сорвать крышки с колодцев, содрать стены, бороться? Лучше оставить все как есть. Тех, кто смеет тянуть лапы к тяжелым железным крышкам, следует убивать.
Тяжелая железная крышка на глубоком колодце в теле Мэри Уэбстер яростно дрожала. Она приплясывала на месте. Танцующее мерцание свечей было подобно мелким игривым волнам на спокойной глади морской. И другой танцующий свет, тот, что сиял в ее глазах, отвечал ему.
Джон Уэбстер, сидя на кровати, говорил свободно, легко. Уж коли он подготовил сцену, то и главную роль в спектакле тоже отдал себе. Сам-то он воображал, будто в центре событий этого вечера находится его дочь. Он даже смел думать, будто ему хватит сил изменить направление ее жизни. Эта юная жизнь была подобна реке, еще совсем узенькой: она течет сквозь тихие луга и издает лишь негромкое журчание. Через этот поток, который вскорости примет в себя другие потоки и станет рекой, — через него пока можно просто перешагнуть. И можно рискнуть и перегородить его бревном — тогда, как знать, удастся пустить его вспять. Все это отчаянная, почти бредовая затея, но тебе все равно никуда не деться от чего-то подобного.
Сейчас он выбросил из головы другую женщину, свою бывшую жену Мэри Уэбстер. Когда она удалилась из спальни, он подумал: наконец-то она сошла со сцены. Ему было приятно смотреть, как она уходит. В сущности, за всю их совместную жизнь он ни разу не имел с ней дела по-настоящему. Мысль, что она покинула пространство его жизни, принесла ему облегчение. Теперь можно вздохнуть глубже, вздохнуть привольнее.
Он думал, что она сошла со сцены — но вот она вернулась. Ему все еще придется считаться и с ней тоже.
В разуме Мэри Уэбстер начали пробуждаться воспоминания. Муж рассказывал историю об их свадьбе, но она не слышала его слов. История у нее внутри принялась сама себя рассказывать, и она начиналась с того далекого дня, далекого дня ее собственной юной женственности.
Она слышала, как из горла ее дочери вырвался крик о любви к мужчине, и крик этот разбередил в ней что-то до того глубинное, что это заставило ее вернуться в комнату, где ее муж и дочь сидели рядом на постели. Однажды тот же самый крик зародился в другой молодой женщине, но непонятно почему так и не вырвался наружу, не слетел с ее губ. В ту минуту, когда он вот-вот мог покинуть ее, в ту давнюю минуту, когда она лежала нагая на постели и смотрела в глаза нагому юноше, что-то такое, чему люди придумали имя «стыд», разделило ее и готовность этого счастливого крика слететь с ее губ.
Сейчас ее разум утомленно брел по времени вспять, вспоминая ту сцену в мельчайших деталях. То была одна давняя поездка по железной дороге, и сейчас она пустилась в нее снова.
Все было так запутанно. Сначала она жила в одном месте, а потом, будто какой невидимка ее подтолкнул, отправилась в гости совсем в другое.
Ехать надо было ночью, а спальных вагонов в поезде не было, так что ей пришлось трястись в сидячем и несколько часов кряду смотреть в темноту.
За окном вагона была темнота, и отступала она только время от времени, когда поезд на пару минут делал остановку в каком-нибудь городке в Западном Иллинойсе или в Южном Висконсине. Вдруг появлялось здание станции с подвешенным к стене фонарем и работник, зачастую один-единственный, который кутался в пальто и иногда толкал по перрону тележку с чемоданами и коробками. В одних городах люди садились на поезд, а в других — сходили с него и исчезали в темноте.
С нею рядом уселась старушка с корзиной, в которой сидел черный с белым кот, а когда она сошла на одной из станций, ее место занял какой-то старик.
Старик ни разу не взглянул на нее, но не переставая что-то бормотал, она никак не могла разобрать что. У него были седые лохматые усы; они свисали над сморщенными губами, и он то и дело поглаживал их костлявой старческой рукой. Слова, которые он бормотал вполголоса, невнятно звучали из-под ладони.
Молодая женщина из того стародавнего путешествия по железной дороге спустя какое-то время начала впадать в забытье, в полудрему. Разум обогнал тело и устремился к тому моменту, когда путешествие завершится. Девушка, с которой она была знакома по школе, пригласила ее в гости, и они обменялись несколькими письмами. Все время, что она пробудет в гостях, в доме будут находиться двое молодых мужчин.