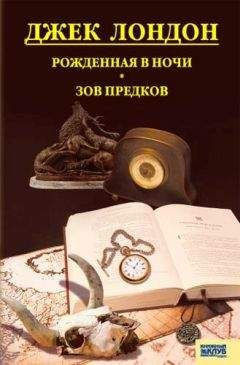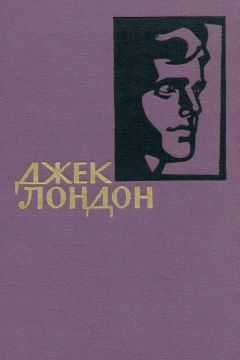— Говорите же! Почему вы молчите? Почему не продолжаете лгать? Почему не просите отпустить вас?
— Я попросил бы, — ответил он, облизывая свои сухие губы, — попросил бы отпустить меня, если бы…
— Если бы что? — решительно спросила она, когда он запнулся.
— Я все думаю о словечке, о котором вы мне напомнили. Да, я попросил бы вас, если бы вы были порядочная женщина.
Краска сбежала с ее лица.
— Будьте осторожнее! — предупредила она.
— Вы не посмеете убить меня! — с презрением произнес он. — Свет — довольно паршивое место, если по нему шатаются люди вроде вас; но, я думаю, все-таки он не так плох, чтобы позволить вам пробить во мне дырку. Вы очень злы, но штука в том, что вы слабы в самой этой злобности. Не так уж трудно убить человека, но у вас не хватит духу. Вот где вы прогадали!
— Выражайтесь осторожнее! — повторила она. — Не то, предупреждаю вас, вам плохо придется. Можно сделать ваш приговор и суровым и легким!
— И что это с Богом случилось, — продолжал он как будто не к месту, — что он оставляет вас на свободе? Понять не могу, зачем он шутит такие шутки с бедным человечеством. Уж если бы я был Богом…
Он не окончил, остановленный приходом дворецкого.
— Телефон неисправен, сударыня, — доложил он. — Провода перерезаны или другая причина, — но я не могу дозвониться на центральную.
— Идите, позовите кого-нибудь из слуг! — приказала она. — Пошлите его за полицией и приходите сюда.
Снова вдвоем.
— Не будете ли добры, мэм, ответить мне на один вопрос? — произнес вор. — Слуга говорил что-то о звонке. Я следил за вами, как кошка, и не видел, чтобы вы звонили.
— Звонок под столом, несчастный дурак! Я нажимала звонок ногой.
— Благодарю вас, сударыня! Мне и раньше казалось, что я уже встречал людей вроде вас, а теперь я уверен в этом. Я открыл перед вами свою душу, доверился вам и был откровенен, а вы все время подло лгали мне!
Она ехидно засмеялась.
— Продолжайте! Говорите, что вам хочется. Это очень занятно!
— Вы делали мне глазки, притворяясь нежной и доброй, все ссылаясь на то, что на вас юбка, а не штаны, и в то же время не снимали ноги с кнопки под столом. Что же, и в этом есть утешение! Лучше быть бедным Хьюги Люком, отбывающим свои десять лет, чем быть на вашем месте. Сударыня, преисподняя полна таких женщин, как вы!
В наступившем молчании мужчина не спускал глаз с женщины, видимо, на что-то решаясь.
— Продолжайте! — настаивала она. — Скажите еще что-нибудь!
— Не беспокойтесь, мэм, я скажу «еще что-нибудь». Наверняка скажу! Знаете вы, что я сделаю? Я просто встану с этого стула и выйду через эту дверь. Я отнял бы у вас револьвер, но вы можете сдуру спустить курок. Лучше оставьте его себе — это хороший револьвер. Повторяю, я пойду прямо через эту дверь! И вы не посмеете спустить курок. Чтобы застрелить человека, нужно духу побольше, а у вас — душонка! Ну, приготовьтесь, посмотрим, можете ли вы спустить курок. Я не причиню вам вреда. Я выйду через эту вот дверь. Я начинаю!
Не спуская с нее глаз, он отодвинул стол, стул и не спеша встал. Курок поднялся наполовину. Она наблюдала за ним, он — за ней.
— Нажимайте крепче, — советовал он, — курок еще и наполовину не взведен. Ну, продолжайте, спустите его — и убейте человека! Разбрызгайте его мозги по полу или пробейте в нем дыру величиной с ваш кулак. Вот что значит убить человека!
Курок толчками, но тихо поднимался. Человек повернулся и медленно пошел к двери. Она повернула револьвер, направив дуло в его спину. Дважды поднимала она до половины курок и нерешительно опускала.
Перед самой дверью человек на мгновение обернулся. Презрительная гримаса скривила его губы. И тихим голосом, почти шепотом он произнес непередаваемо гнусное ругательство, в которое вложил все свое презрение к ней.
I
Никто не знал его прошлого — и члены Хунты[9] меньше всего. Он был их «маленькой тайной», их «великим патриотом» и по-своему так же ревностно трудился для грядущей мексиканской революции, как они сами. Они поздно поняли это, ибо никто из членов Хунты не любил его. В тот день, когда он в первый раз заглянул в их людные шумные комнаты, все они заподозрили в нем шпиона — одно из продажных орудий тайной полиции Диаса[10]. Слишком уж много товарищей сидело в гражданских и военных тюрьмах, рассеянных по территории Соединенных Штатов. Некоторых, закованных в кандалы, даже перевели через границу, чтобы поставить к стенке и расстрелять.
Наружность мальчика не производила благоприятного впечатления. Это именно был мальчик — не больше восемнадцати лет, и не слишком высокого роста для этих лет. Он назвал себя Фелипе Ривера и заявил, что желает работать на революцию. Только и всего, — ни одного лишнего слова, никаких пояснений. Он молча стоял и ждал. Ни улыбки на губах, ни привета в глазах. Рослый, франтоватый Паулино Вэра внутренне содрогнулся. Перед ним было нечто отталкивающее, страшное, непостижимое. Было в черных глазах мальчика что-то ядовитое, змеиное. Они горели холодным огнем сосредоточенного безграничного ожесточения. Он быстро переводил глаза с лиц революционеров на пишущую машинку, за которой усердно работала миссис Сэтби. Глаза его остановились на ней лишь на мгновение; случайно она обернулась — и тоже испытала неопределенное чувство, заставившее ее прекратить работу. Чтобы возобновить прерванную нить письма, ей пришлось перечесть текст.
Паулино Вэра вопросительно поглядел на Ареллано и Рамоса, а те, в свою очередь, переглянулись между собой. Нерешительность, сомнение видны были в их глазах. Этот худощавый мальчик был сама Неизвестность, полная угрозы Неизвестность. Он был непостижим, не похож на обыкновенного честного революционера, у которых самая непримиримая ненависть к Диасу и его тирании в конце концов была лишь ненавистью честного и сильного патриота. Тут перед ними было нечто другое — что именно, они не могли бы сказать. Впрочем, Вэра, самый порывистый из них, действовавший быстро и решительно, не стал задумываться.
— Ну, хорошо, — холодно промолвил он. — Ты говоришь, что хочешь работать на революцию. Сними пальто, повесь его вон там. Я покажу тебе, где ведра и тряпки. Смотри, какой грязный пол. Начни с того, что вымой его и вымой полы в других комнатах. Нужно почистить плевательницы. Потом окна.
— Это на революцию? — спросил мальчик.
— Это на революцию, — ответил Вэра.
Ривера бросил на него подозрительный, холодный взгляд и начал снимать пальто.
— Хорошо, — сказал он.
И больше ни слова.
Каждый день он являлся на работу — подметал, скреб, мыл, чистил. Он выгребал золу из печей, приносил уголь и растопку и топил печи прежде, чем самые усердные из революционеров подходили к своему столу.
— А ночевать тут можно? — спросил он как-то.
Ага! Вот оно! Вот где показались когти Диаса. Спать в комнате Хунты — значило иметь доступ ко всем ее секретам, к списку фамилий, к адресам товарищей, находящихся в Мексике. Ему отказали, и Ривера больше не поднимал этого вопроса. Где он ночевал, они не знали, не знали и того, где он питается и чем. Однажды Ареллано предложил ему пару долларов. Покачав головой, Ривера отказался от денег:
— Я работаю на революцию.
Организация современной революции требует денег, и Хунта всегда в них нуждалась. Члены Хунты голодали и трудились, как волы, не считаясь с тем, что их рабочий день был самым долгим, — и все-таки порой казалось, что судьба революции зависит от каких-нибудь нескольких долларов. Однажды — это было в первый раз, когда квартирная плата была просрочена за два месяца и хозяин угрожал выселением, — поломойка Фелипе Ривера, в убогом, дешевом костюме, поношенном и рваном, выложил шестьдесят долларов золотом на письменный стол миссис Сэтби. Это случалось не раз. Триста писем, отбитых на машинке (просьбы о помощи, воззвания к организованным рабочим группам, воззвания к редакторам газет, протесты против возмутительного обращения с революционерами в судах Соединенных Штатов), лежали неотправленными в ожидании марок. У Вэры исчезли часы — старинные золотые часы с репетиром, принадлежавшие его отцу. Исчезло также простое золотое колечко с пальца руки миссис Сэтби. Положение было отчаянное. Вэра и Ареллано растерянно покручивали свои длинные усы. Письма надо было отправить во что бы то ни стало, а почта не дает кредита покупателям марок. Однажды Ривера надел шляпу и вышел. Вернувшись, он положил на конторку Мэй Сэтби тысячу марок по два цента.
— А если это золото проклятого Диаса? — сказал Вэра товарищам.
Те подняли брови, но ничего не ответили. И Фелипе Ривера, поломойка для революции, продолжал, как только становилось необходимо, выкладывать золото и серебро на нужды Хунты. И все же они не могли заставить себя полюбить его. Они не знали его. У него были совершенно иные, чем у них, повадки. Он не откровенничал, не давал себя прощупать. И хотя он был очень молод, они ни разу не могли заставить себя учинить ему допрос.