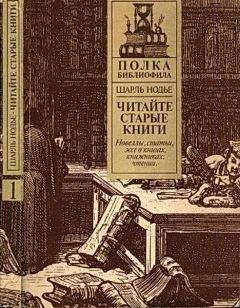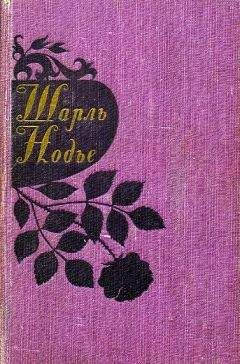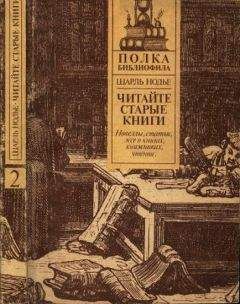и сожалею, что его остроумный автор так скоро прекратил свои насмешки, ибо создатели нынешних буриме заслуживают такой же суровой взбучки, какую задал когда-то своим современникам Сарразен[70]{239}. А пока наши стихотворцы наперебой пишут пародии сами на себя; иначе не назовешь эти три или четыре сотни жалких поэмок, сочиненных, кажется, одним и тем же автором, по одному плану и, более того, на одни рифмы, поэмок до того одинаковых, что разобраться, какая кому принадлежит, невозможно, и Академия, не решаясь отдать предпочтение кому-то одному, делит свое восхищение между двумя десятками поэтов. Сомневаюсь, чтобы Буало и Расин, живи они в наше время, разделили бы это восхищение.
Столь же примечательные изменения произошли в прозе; мастеров стилизации ждет здесь обширное поле деятельности. Создается впечатление, будто язык, в который Монтескье вдохнул столько ума, Бюффон — столько величия, а Руссо — столько красноречия и пыла, вдруг перестал удовлетворять новое поколение литераторов, и оно сменило его на какой-то другой, который потрясает воображение, но ничего не говорит уму, и в котором
Есть слова и звуки{240}, и ничего более.
Прежде всего прозу стали облагораживать, но не посредством мудрых мыслей и точных выражений, как то делали великие мастера, а с помощью некоего поэтического лака, совершенно чуждого ее характеру, с помощью насильственных инверсий и изысканного колорита, который изменяет ее облик, но не украшает его. Боссюэ, который, размышляя о возвышенном, часто обращался к священным книгам{241} и, можно сказать, напитал свои сочинения библейским слогом, порой употреблял во множественном числе слова, которые, как правило, употребляются лишь в единственном, чем придавал фразе благолепие и торжественность. Эта маленькая хитрость так полюбилась нашим новоявленным гениям, что быстро набила всем оскомину. Из высокой прозы были изгнаны все существительные в единственном числе, да и множественное число отныне появлялось чаще всего в собирательном значении: если гремел гром, то непременно разверзались хляби небесные, если трепетал зефир, то непременно среди всех пустынь, если поминались берега, то непременно всех морей[71]{242}.
Иной способ изображать возвышенные чувства изобрел Паскаль: он говорил о самых серьезных вещах подчеркнуто простыми, едва ли не банальными словами. Сходным образом Фенелону и другим писателям с нежной и чувствительной душой превосходно удавалось, если можно гак выразиться, умягчать свой стиль, рассыпая по тексту упоминания о предметах трогательных и привычных. С особенным блеском владел этим искусством Лафонтен. Названные два приема, требующие большей изобретательности, чем предыдущий, породили, однако, не меньше злоупотреблений; досаднее всего, что даже люди весьма одаренные позволяли себе извращать поэтический язык, используя эти приемы как попало и делая тайны гениев достоянием черни. Добавьте сюда несколько обрывков самого легкодоступного стиля из всех, стиля описательного, и можете считать, что вы овладели тем, что ныне именуют литературным ремеслом; это унизительное слово, которым живописцы обозначают чисто технические навыки, вполне подходит к тому рабскому копированию приемов, о котором я веду речь. Конечно, на первый взгляд у литераторов-ремесленников есть убедительное оправдание: «Чем вам не нравятся наши сочинения? — говорят они. — Ведь оборот, который вас раздражает, заимствован у Лабрюйера, инверсия, которая вам не по нраву, взята из Флешье, где она вас восхищала, а фигура речи, которую вы порицаете, извлечена из „Писем к провинциалу” либо из „Надгробных речей”». — Согласен, но не сваливайте вину на автора ”Надгробных речей” и сочинителя ”Писем к провинциалу”{243}. Поймите, что прекрасный оборот, который у них звучал совершенно естественно и, говоря вашим языком, был исполнен многочисленных гармоний, совершенно неуместен в вашем сочинении. Вспомните, что слова и состоящие из них обороты либо фигуры — не более чем одежды мысли, которые ничем не замечательны сами по себе и вызывают восхищение или смех только в зависимости от того, какое чувство за ними стоит. Каррарский мрамор — одно из прекраснейших созданий природы, но в неумелых руках осколок этого мрамора может испортить всю мозаику.
Я с радостью повторю то, с чем могут спорить только люди злонамеренные: среди основателей этих злосчастных школ есть писатели по-настоящему талантливые, ведь что ни говори, а подать в литературе пример, пусть даже дурной, может только очень яркий талант. Но на одного автора, чьи опасные нововведения оправданы множеством красот, приходится куча авторов, которые, доведя новшества до крайности, до абсурда, заходят в тупик, — и все это ничем не оправдано. У первопроходцев, по крайней мере, хватает ума скрыть от читательской толпы новый прием, на который они возлагают все надежды, однако заблуждение публики быстро рассеивается, и она с изумлением понимает, что рукоплескала жалким подделкам — ибо как еще назвать произведения такого рода? Законодатели мод могут сколько угодно захлебываться от восторга, читая эти удивительные стилизации, и сколько угодно восклицать: ”Это настоящий Фенелон! Точь-в-точь Боссюэ! Как похоже на Гомера! Не отличить от Исайи!” — ”Сходство, конечно, есть, — отвечу я им, — но не больше, чем между плоскими лицами Джордано и полотнами Гвидо. Чтобы написать все эти возвышенные страницы, не нужно ничего, кроме умения подражать”.
Раз уж я завел речь обо всех этих курьезах, которыми, насколько мне известно, никто всерьез не интересовался, то продолжу и скажу, что если, как я уже говорил, великие произведения — гораздо более трудный материал для подражателя, чем произведения посредственные, то, сходным образом, великим писателям подражания не даются, занимаются ли они ими всерьез или берутся за них лишь для того, чтобы набить руку и позабавиться, как Буало, и если знаменитый автор ”Поэтического искусства”, снисходя подчас до подобных безделиц, неизменно имел успех, то это явное исключение из правила; все дело здесь, я полагаю, в том, что, совершенствуя свой вкус, обеспечивший ему одно из первых мест в литературе его времени, Буало старательно изучал различные стили и их недостатки. Что же касается прочих стилизаторов, то велика ли заслуга — обирать древних авторов, похищать у них все лучшее, чтобы воровски присвоить ту славу, которой они были обязаны прирожденной изобретательности и уму? Кроме того, выдающийся талант всегда сочетается с неким простодушием и своеобычностью нрава, чуждающимися рабского подражания, поэтому я полагаю, что если стиль какого-либо автора хвалят за сходство со стилем другого, пусть даже самого знаменитого сочинителя, то похвалы расточаются посредственному автору и посредственным произведениям. Перечитайте великих писателей всех времен; кажется, они пишут совсем просто, но вы не найдете среди их стилей двух одинаковых, как не найдете людей с абсолютно одинаковыми чертами лица или выражением глаз. Как пять-шесть черт в разном сочетании породили такие совершенные образцы человеческой красоты, как Юпитер Мирона, Геркулес Фарнезе{244}, Аполлон, Фокион и Венера, так различные сочетания мыслей породили безупречные стили, всюду равно прекрасные и, однако, всюду разные. Тайна стиля скрыта в идеальном соответствии слов мыслям; здесь же естественно было бы искать и причину разнообразия стилей, если бы у этого разнообразия не было другой, не менее важной причины: стиль писателя зависит от его характера, и, если у писателя нет своего стиля, значит, у него нет и характера, — недаром мудрый афоризм гласит: ”Стиль — это человек”{245}. Истина эта всеми признана, и вряд ли хоть один новатор станет с нею спорить; более того, именно из нее они и исходили, но они надеялись создать оригинальный стиль, обновляя избитые поэтические средства или употребляя на каждом шагу приемы, которые прежде использовались очень скупо, — и в этом заключалась их ошибка. Мечтали они об открытиях, а создали пародии.
Говоря короче, у настоящих мастеров есть свой стиль, а у школ — манера; ее-то и усваивают в меру сил писатели, которые не имеют собственного стиля. Писатель талантливый, берущийся за перо по вдохновению, запечатлевает в своих произведениях собственный характер; писатель посредственный, берущийся за перо из упрямства, корысти или, что, пожалуй, более простительно, из любви к приятным и невинным литературным занятиям, запечатлевает в своих произведениях слабый отсвет характера других писателей, поскольку своего характера у него сроду не было; однако со временем он непременно приобретет навык, который отчасти заменит ему талант, и научится лепить свой стиль по образцу того, который хранится в его памяти, — вот что я называю естественной, или непроизвольной, стилизацией.