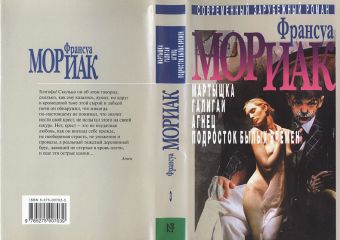При первых же его словах, которые во исполнение воли мадам должны были заставить меня разговориться, я уклонился. Я уверил его, что моя мать напрасно забрала себе в голову, будто единственная женщина, завладевшая моей жизнью, — это она и будто бы для меня не существует иной задачи, кроме освобождения из-под ее власти, хотя бы даже ценой безрассудного в глазах общества брака. Я остерегся внушать господину настоятелю полное спокойствие, а лишь дал ему понять, что для меня еще ничего не решено.
— Но, — сказал я, — не я сейчас представляю для вас интерес (он хотел возразить), я хочу сказать, что не ради меня следует вам бросаться в воду, а ради Симона, с которым я вижусь теперь каждый день. Да, пришло время вытащить его на берег, но на этот раз он сам устремится туда, куда влечет его призвание, а вам останется только облегчить ему путь. И будьте осторожны, помните, что стоит вам заговорить о «духовном руководстве», как он сразу же замкнется в себе.
Он слушал меня со смиренным вниманием, и меня это трогало. Бедный настоятель, все его страстные, не знавшие применения отцовские чувства обратились на этого крестьянского парня, не бессердечного, конечно, но озлобленного и ожесточившегося, он готов был говорить о нем без конца.
— Я никогда не упускал его из виду, знаешь, я издали следил за ним, но он и не подозревал об этом. В первую зиму в Париже он заболел воспалением легких. Я завязал отношения с его хозяйкой, задобрил ее, и она сообщала мне о его здоровье — тайком, разумеется! Симон решил бы, что он при смерти, если бы узнал, что я брожу вокруг его одра.
Мама лежала у себя в комнате, поэтому ничто не мешало настоятелю встретиться с Симоном на улице Шеврюс, а не в книжной лавке. Он согласился, «но только с разрешения мадам». Когда я, приоткрыв дверь, изложил маме нашу просьбу, она прервала меня слабым голосом:
— Ах, делайте что хотите, лишь бы он не попадался мне на глаза.
Встреча произошла в маленькой гостиной и длилась около двух часов; потом Симон отправился к себе, не простясь со мной. Они договорились, что Симон еще на год останется в Талансе, где местный священник, «святой аббат Муро» — друг господина настоятеля, — возьмет на себя заботы о нем и подготовит к возвращению в семинарию — разумеется, не в Бордо, может быть, в Иссиле-Мулино. Все это требовало немалых раздумий и хлопот.
Я со своей стороны обещал настоятелю, что скоро он увидит меня в Мальтаверне: моя мать в конце концов добилась от меня согласия на отъезд, но с оговоркой. Я заявил, что прежде я должен сделать необходимые для своей диссертации выписки в городской библиотеке. Вряд ли кто-нибудь мог похвалиться, что видел меня там хоть раз за все это время...
Два месяца я не открывал этой тетради. То, что я пережил, не поддается никакому описанию, не укладывается в обычные слова: есть стыд, который невозможно выразить. То, что я смогу рассказать здесь об этом, будет, как и все остальное, лишь изложением событий в определенной последовательности и порядке. Итак, попытаюсь: я должен выполнить обещание, данное Донзаку... Говоря откровенно, зачем мне этот предлог? Словно сам я не испытывал горького удовольствия, снова и снова переживая этот стыд, час за часом, до самого конца моей истории, вернее, до конца одной главы моей истории, которая только еще начинается!
Я пишу это 20 октября, держа тетрадь на коленях, в нашем охотничьем домике, в урочище шикан, затерянном в глуши, далеко от всех ферм. Стоит мягкая погода, туман, в этот день ждали большого перелета, но вяхири не летят: сегодня тепло, они прячутся в ветвях дубов и объедаются желудями. Я вижу остроносый профиль Прюдана Дюбера, его тяжелый подбородок, он высматривает сквозь вершины сосен небесные пути, по которым должны потянуться летящие стаи, если только они появятся Раздается свист, к Прюдану присоединяется какой-то фермер, спрашивает:
— Rassat palumbes?
— Nade! Nade![19]
Под могучими кряжистыми дубами, укрывшими нашу хижину, я всегда всем своим существом ощущаю вечность, так же как на берегах Юра проникаюсь сознанием бренности нашего бытия Человек — это даже не мыслящий тростник, а мыслящая мошка, но и в те немногие минуты, что отпущены ей для жизни, она находит время для совокупления — вот что ужасно. Из всего происшедшего я попытаюсь записать то немногое, о чем, мне кажется, можно сказать.
Я не посещал городскую библиотеку вовсе не потому, что почти каждый вечер ходил на улицу Эглиз-Сен-Серен. С Мари я встречался только после закрытия магазина и легко мог примирить требования работы над диссертацией с требованиями своей страсти. Но в эти тяжкие тягучие дневные часы в отупевшем от жары городе я способен был только ждать... Что же тут такого? В чем, собственно, драма? Такова история всех и каждого в известном возрасте, в известный момент жизни. Вероятно, нужно быть христианином, как я, или быть им хотя бы в прошлом, как Мари, чтобы думать, будто речь идет о чем-то большем, чем наша земная жизнь, когда мы уступаем инстинкту размножения, свойственному всем видам живых существ. Или, вернее, надо принадлежать к тому виду нетерпимых христиан, к которым принадлежу я: сделав уступку, они не ищут себе оправдания. Если суждено им погибнуть, они погибнут с открытыми глазами.
В одном я больше не сомневался — в искренности Мари в тот день, когда она говорила о своей боязни оторвать меня от бога, а я заподозрил, что она «притворяется». Она отказалась от бога для себя, но не для меня. Она уверяла, что я создан из сплава, в котором слилось то, что исходит от Христа и от Кибелы... Но если послушать ее, во мне преобладает христианская сторона. «Я не хочу губить тебя», — твердила она. Я возражал, напоминая ей нашу ночь в Мальтаверне. Почему, вопрошали мы себя, она больше не повторилась? Почему чуть не каждый вечер я униженно возвращался на улицу Эглиз-Сен-Серен, хотя, расставаясь накануне, мы в полном согласии решали, что это в последний раз? Почему эти повторные падения так мало походили на тот наш сон в летнюю ночь, когда все счастье мира открылось мне в одно мгновение, словно наши души обрели на этот вечер, на один-единственный вечер, право соединиться в тот же миг, что и наши тела? И вот я снова обречен на отвращение. Кто вдохнул в меня это отвращение?
«Чего ты добиваешься?» — как сказала бы бедная мама. Мари не походила ни на какую другую женщину, может быть, потому, что была когда-то верующей девочкой. И в этом тоже не было лжи: ее мука бесконечно превосходила мою. Эта мука старила ее, вернее, выдавала ее настоящий возраст, тогда как я, по ее словам, сохранял свой ангельский вид, «даже крылышки не измялись», говорила она с насмешкой и тоской.
На улице Шеврюс мама, поджидая меня, бродила по комнатам с трагическим выражением лица для особо серьезных случаев. Я сколько мог тянул время под предлогом занятий в городской библиотеке. Наконец она потребовала, чтобы я хотя бы назначил дату нашего отъезда. Я отказался называть какую бы то ни было дату. По прошествии недели она уже ни о чем не спрашивала, и было ясно, что больше она себя дурачить не даст. Она знала, откуда я возвращаюсь каждый вечер, и знала, что я это знаю. Она обнимала меня лишь затем, чтобы обнюхать, но она была слепа и не видела того, что преисполнило бы ее радостью, пойми она это: она считала, что я запутался в паутине, и это действительно было так, вернее, паутина опутывала мое тело в часы ожидания, а потом — еще несколько минут. Но о том, что ни Мари, ни я больше не помышляли соединиться навек, моя мать и не догадывалась: из моего временного порабощения она делала вывод, что я порабощен навсегда.
Вечером, после ужина, я уходил из дому, сытый и усталый. Мама знала: на этот раз я выхожу не затем, чтобы творить зло, — я всегда предлагал ей прогуляться вместе. Она отказывалась, но была спокойна. Иногда я возвращался через час, иногда попозже, если слушал музыку на площади Кенконс, где летом устраивались открытые концерты Но чаще всего я довольствовался мороженым в кафе на площади Комеди или, невзирая на москитов, бродил по аллеям Ботанического сада, подальше от толпы, окружившей духовой оркестр 57-го полка.
Я был уверен, что теперь, в конце августа, никого здесь не встречу. Но в тот вечер на скамье в дальнем углу площадки сада сидел какой-то молодой человек и курил трубку. Я устроился на другом конце скамьи, не глядя в его сторону. Он насмешливо спросил:
— Август, а ты в Бордо? Почему не в Аркашоне, или Понтейяке, или Люшоне?
Я узнал студента последнего курса по фамилии Келлер, одного из тех христиан, которые «идут в народ», «сеятеля», одного из тех молодых людей, которых я раздражал еще прежде, чем раскрывал рот.
— Должно быть, потому, — сказал я вызывающим тоном, — что здесь у меня есть занятия повеселее.
Он проворчал:
— Чего же еще от тебя ждать?
Когда мы с ним познакомились на факультете два года назад, этот апостол, прельстившись мной, пустился проповедовать. Но тогда книга Барреса «Под взглядом варваров» давала мне ответ на все, снабжала меня формулами для защиты от коллег «с язвительным, раскатистым смехом». От всех прочих я отгораживался «гладкой поверхностью». Я не преминул воспользоваться этим оружием и против Келлера, который вскоре определил меня как одно из самых презренных существ в мире — обеспеченный крупный буржуа
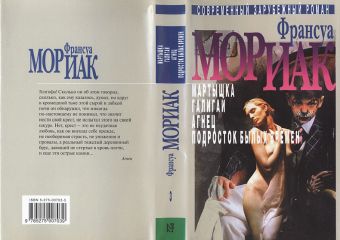
![Франсуа Мориак - Том 3 [Собрание сочинений в 3 томах]](https://cdn.my-library.info/books/135894/135894.jpg)